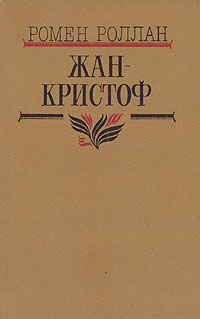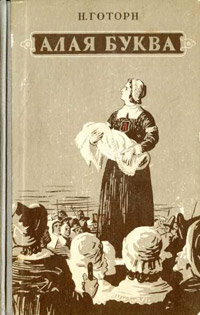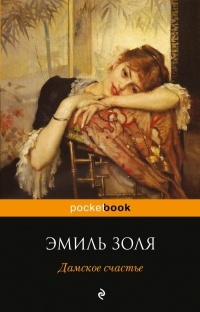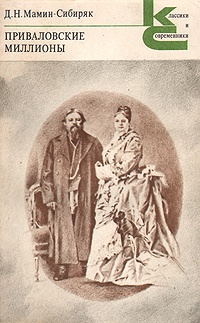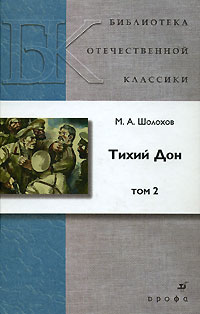Мольер «Тартюф, или Обманщик», «Мещанин во дворянстве» (1664-70)
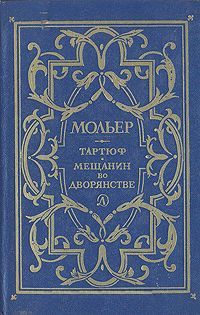
Литературные произведения, вскрывающие язвы общества, не могут быть плохими, хоть как их пиши. Не так важно, каким образом содержание преподносится автором, если его слова заставят человека задуматься. Не скажешь, будто комедии Мольера могут поразить глубиной и продуманностью. Это не является их отличительной особенностью. Жан-Батист брал за основу конкретную ситуацию, придавая ей самую малость иносказательный смысл. Например, «Тартюф» повествует про аферистов, «Мещанин во дворянстве» тоже. Только сюжет первого произведения показывает злостного нарушителя спокойствия добропорядочных граждан, а сюжет второго — даёт возможность хитрецам добиться личного счастья, обманывая во благо.
Куда не глянешь, всюду человек стремится превзойти себе подобных, чаще всего нарушая правила приличия или преступая закон. Стоит подумать, да всё-таки причислить к числу древнейших профессий и обманщиков всех мастей, принявшихся выполнять свои обязанности много раньше всех остальных, даже тех, кто начал задумываться о необходимости хоть чем-то заняться — его перед этим уже успели обмануть. Представленный вниманию читателя Тартюф — достойный представитель из рода плутов. Его жизнь построена на постоянном вранье и поиске выгод. Он крутится ужом на сковороде, не боясь обжечься. Лесть — основное оружие Тартюфа. При этом он действует без выдумки, влияя лишь на единственное лицо, способное наконец-то поправить его шаткое финансовое положение. Все остальные действующие лица стараются переубедить заблуждающегося, прямо сообщая об уловках Тартюфа.
Обманутый обманываться рад — гласит кем-то сказанная мудрость. Как бы человек не воспринимал ситуацию, думая о личной выгоде, на его спине обязательно кто-то ездит. Хорошо, ежели ему об этом говорят, заставляя задуматься. Никогда нельзя отмахиваться от каких-либо слов, заново не переосмыслив ситуацию. Кажется, всё идёт по плану. Однако, по чьему именно плану всё идёт? В жизни всегда нужно исходить из принципа, что происходящее обязательно кому-то выгодно, причём, чаще всего, выгоду извлекает пострадавшая сторона. Парадоксально, но факт. Отчасти у Тартюфа это тоже так. Плут кажется несправедливо обижаемым, пока остальные из им понятных соображений, возводят на него хулу.
Мольер чересчур прямолинейно построил повествовательную линию, не скрывая истинных намерений Тартюфа. До последнего кажется, что его незаслуженно оскорбляют, принижая значение благородных порывов. К сожалению, в это верил и сам Мольер, не внеся в действие тайного смысла. Тартюф виноват и понесёт наказание. Впрочем, Мольер его обрёк на это изначально, представив в виде простака, решившего поживиться за счёт другого простака, не осознав, насколько остальные могут оказаться чуть умнее.
Гораздо насыщеннее событиями произведение «Мещанин во дворянстве». Будучи написанным по заказу французского короля, дабы обыграть оказию с визитом османского посла, Мольер дополнительно внёс в повествование наметившуюся тенденцию перехода мещан во дворянство. Безусловно, происходящее — фарс. Снова влиятельное действующее лицо напоминает человека, чьи умственные способности вызывают сомнение; им всякий крутит по своему усмотрению, включая автора, дабы под конец все оказались счастливы. Тут нужно задуматься, а стоит ли вообще обладать сообразительностью, если от неё обязательно случаются беды?
Мольер никуда не спешит. «Мещанин во дворянстве» — это прежде всего балет. Значит действующим лицам полагается часто заниматься чем-то, что позволит зрителю насладиться ещё и хореографией на сцене. Не имея возможности посетить постановку, но желая прочитать произведение Мольера, читатель вынужден мириться с сущими глупостями, вроде разучивания героями правильного произношения букв и прочих несуразностей, о которых с усмешкой словами персонажей говорит и сам автор. Коли всё в жизни так просто, то зачем совершать бесполезные действия? Хотя… читатель понимает — чем бы человек не занимался, это лишь способ скоротать время, поскольку польза — понятие эфемерное, заставляющее сомневаться в её необходимости.
Снова читатель сталкивается с обманом, ещё не понимая его истинного размаха. Он будет приятно удивлён, стоит ситуации окончательно разрешиться. Как такое могло случиться, что ему пришлось оказаться в числе глупцов, поверивших автору? Дополнительный стимул в следующий раз не забываться и всегда быть готовым к подобному развитию сюжета.
Сказка — ложь: ещё одна общеизвестная истина. Нужно лишь вычленить намёк.
Автор: Константин Трунин