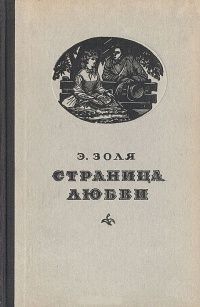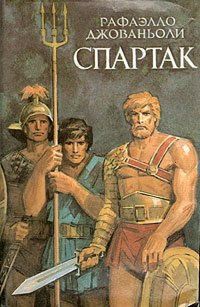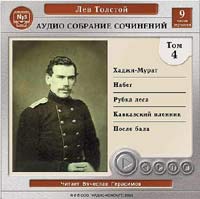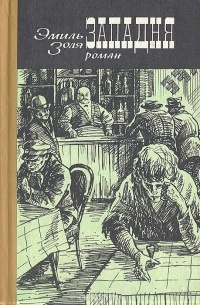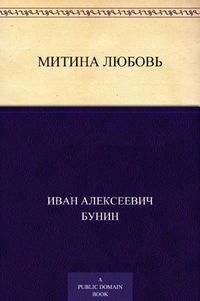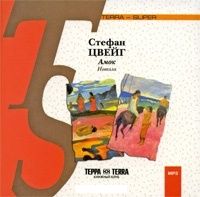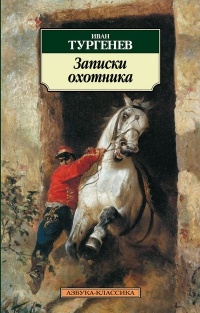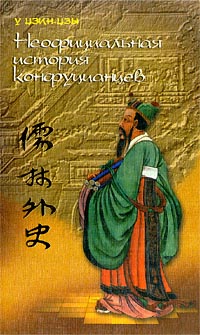Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII век)
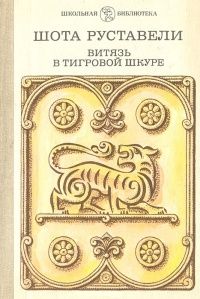
На запад ли смотрит Грузия или всё же на восток? Если опираться на эпическую поэму Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре», события которой происходят на протяжении от Аравии до Индостана, то выбор должен быть остановлен на востоке. И это неспроста. Читатель может усомниться, вспоминая тесные связи Грузии с Византией, дружбу с Комнинами и помощь в создании едва ли не полностью подконтрольной Трапезундской империи ещё при правлении царицы Тамар. Сам Шота в тексте поэмы несколько раз ссылается на некие персидские источники, из которых он позаимствовал сюжет для своего произведения. По сути, «Витязь в тигровой шкуре» — красивая сказка на восточный манер. Она была написана для услады слуха Тамар. А разве есть более елейный сюжет, нежели тот, где сильные мужи совершают подвиги во имя красавиц? Посему политику в сторону!
Слог Руставели чудесен. Переводчики хорошо постарались, чтобы поэма на любом другом языке выглядела также блестяще. Читатель восхищается сложению рифм. Сюжет выглядит устремлённым вперёд и не даёт взору читателя задерживаться на обыгрывании одних и тех же моментов. Безусловно, требовать от сказки чего-то большего, нежели сказочного сюжета не нужно. Автор мог вместить в повествование подтекст для размышлений, но делать этого не стал. Действующие лица стоят друг за друга горой, приходя на выручку и позволяя внимающему возносить хвалы за существование подобных людей. Если и случается между кем вражда, то надо просто понять, что без негативной окраски поступков отдельных персонажей елей станет до противного приторным, хуже прогорклого мёда будет на вкус.
Будоражит воображение читателя витязь с первых страниц: обладатель недюжинной силы, независимого нрава и невиданной способности ускользать из поля зрения. Именно он становится причиной, побудившей одного из главных героев оставить родной дом и отправиться на его поиски, чтобы унять дрожь в самолюбии властелина и осушить слёзы на глазах принцессы. Перед ним стоит картина скитаний по бесплодной пустыне и необъятным азиатским просторам, а ему всего лишь необходимо найти маленькую иголку, иначе вместо золотых гор лучше ему сгинуть в безвестности, чему может послужить любой колодец на пути. Такой читателю предлагается завязка истории, о финале которой он должен догадаться сразу, ведь сказка не может плохо заканчиваться.
Истории, аналогичные «Витязю в тигровой шкуре», можно найти в сказаниях разных народов. Например, русские сказки знают несколько примеров, среди которых та, где молодого человека отправляют неизвестно куда и неизвестно зачем, чтобы он принёс неизвестно что. Разве нет? Мираж в пустыне, представший аравийскому властелину, ничем не уступает такому сюжету. Но коли послать можно доверенное лицо во исполнение будоражащих воображение прихотей, то целью поисков может быть и мифический предмет, и сокровенная мечта одолеть чудеса природы. Впрочем, у витязя не всё так печально — его послали с конкретным заданием на все четыре стороны света.
Утяжеляют повествование поэмы Руставели вложенные истории, служащие наградой за выполненные задания. Когда решается очередная проблема, тогда читатель получает возможность узнать, откуда она вообще возникла. Получается, доблесть переполняет душу при нужде отомстить за обиду, чтобы породить следующий всплеск желающих отомстить, но уже в отдалённой перспективе. Этот незамыкающийся круг кровной вражды — одна из традиционных черт, происходящих на востоке событий. Ввязывание в вековые распри Руставели обрамляет в добродетель, трактуя происходящее на своё усмотрение. Однако, всегда можно посмотреть на такие поступки иначе, только до нас дошла версия в виде «Витязя в тигровой шкуре», поэтому не стоит выходить за заданные сюжетом поэмы рамки.
Золото Кавказских гор — это произведение Шоты Руставели. Аргонавтам надо было приплыть попозже.
Автор: Константин Трунин