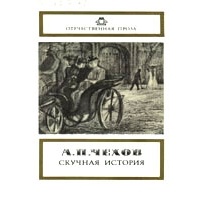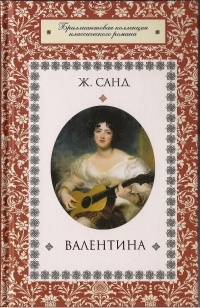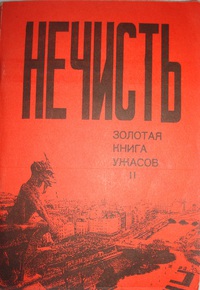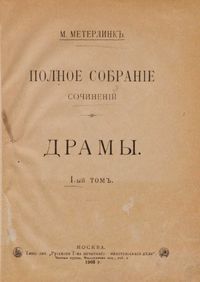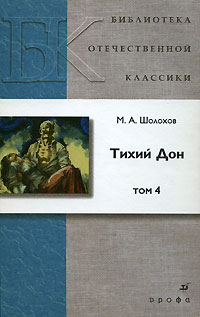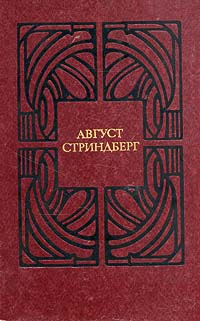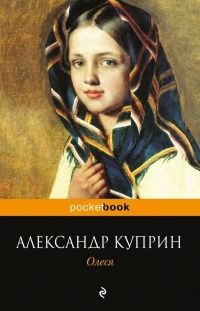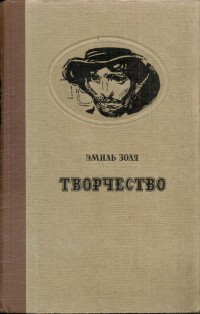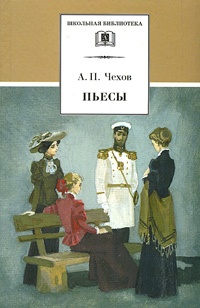Эмиль Золя «Человек-зверь» (1890)
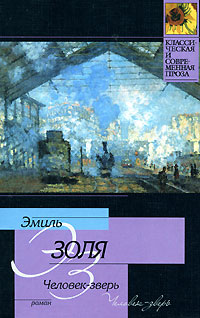
Цикл «Ругон-Маккары» | Книга №17
Эмиль Золя убивает. Убивает много и со вкусом. Он уже не сводит действующих лиц в могилу под занавес повествования. Теперь он это делает по ходу сюжета, отправляя на тот свет безвестных персонажей, чей обязанностью стало служить изуродованными трупами. Убивают не только желающие убивать, но и невольные убийцы, обязанные убить во благо личным убеждениям. Убивают из ревности. Самоубиваются. Становятся жертвами стечения обстоятельств. Смерть повсюду. Золя вооружился косой, взмахами пера пуская в расход опостылевший материал.
Жак Лантье, сын спившейся Жервезы Купо, брат художника Клода, рудокопа Этьена и актрисы Нана. Он с рождения был обречён обладать склонностью к саморазрушению. Ему предстояло прожить спокойную жизнь на железнодорожной станции, не стань он свидетелем убийства. В его голове заработал механизм, отсчитывающий количество приступов безумия, после чего Золя прекратит его мучения. Но до того читатель познакомится с обилием действующих лиц, восприняв на страницах множество тупиковых линий, на которые их будет отправлять стрелочник-писатель.
Золя, помимо будней машиниста времён Второй империи, предлагает познакомиться с рабочим процессом следователя и каменотёса. Особый упор будет сделан на расследование одного дела, в котором будут участвовать основные действующие лица. Они все находятся под подозрением, одинаково претендуя на право быть обвинёнными, причём неважно, виновными ли окажутся подозреваемые или нет. Золя предпочитает раскрывать психологию персонажей. Всем им трудно бороться со свалившимися на них обстоятельствами. Кто-то обязан совершить необдуманный поступок под давлением следователя. Золя не выбирает, заставляя ошибиться каждого. Причём чаще всего это заканчивается смертельным исходом. Не мог Золя позволить действующим лицам жить. Эмиль всегда ставит финальную точку. Если он о чём-то недоговаривает, то позже может осуществить отложенное в последующих произведениях цикла.
Человек действительно зверь. Нельзя назвать конкретное действующее лицо, которому Золя дал эту характеристику. Под неё попадают все, в том числе и сам писатель. Поступая сообразно желанию улучшить жизнь, человек совершает преступления против личности. Убивает ли он или исходит из других побуждений, определение зверя за ним останется навсегда. Даже следователь, действующий в рамках закона, не отдаёт отчёта последствиям используемых им методов по выявлению преступников и выведению их на чистую воду. Такой человек может отправить отбывать наказание безвинное существо, оставаясь уверенным в правоте. Стоит ли говорить об истинном маньяке, коим обозначен Жак Лантье, чья жажда резать и кромсать периодически туманит ему мозг. Он тоже зверь — с этим нельзя ничего поделать.
И Золя — зверь. Его привычка обрывать жизни главных героев для читателя является обыденным явлением. С первых страниц становится понятным, что с успешного взлёта начинается фатальное падение. Жизнь персонажей порой обрывается в результате насущного на то желания у Золя. Не нужно пускать поезд под откос, хотя Золя обязательно устроит несколько железнодорожных катастроф. Будет много искалеченных, Эмиль упьётся кровавыми сценами. По сравнению с этим, жажда кого-то из действующих лиц резать живых людей ножом, уже не рассматривается в качестве вопиющего акта против права человека жить.
Основное, о чём читатель никогда не задумается, завершается «Человек-зверь» в тот же год, когда пал Наполеон III. Крови французы пролили тогда немало. Стоит подивиться, отчего среди потомков дома Аделаиды Фук никто ещё не стал военным. Или жажда крови у Золя идёт по нарастающей? Маньяк-машинист Жак Лантье лишь несколько раз выходил на охоту, тогда как Золя это сделал в семнадцатый раз.
Автор: Константин Трунин