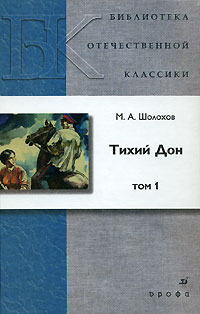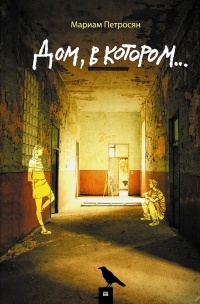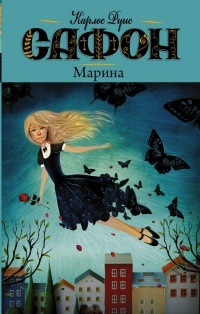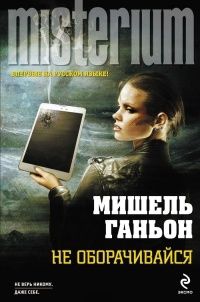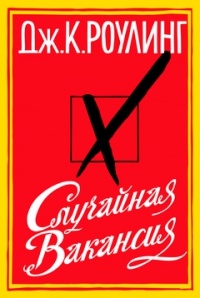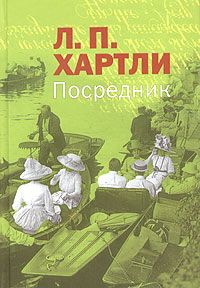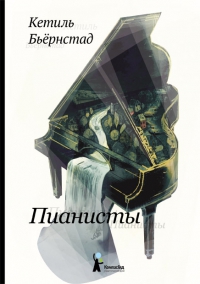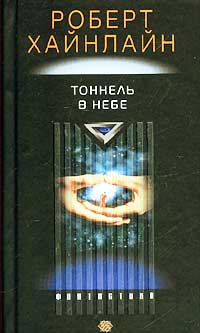Алексей Олейников «Левая рука Бога» (2015)
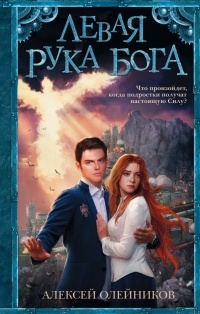
Интерпресскон-2016 | Номинация «Крупная форма»
В своём творчестве Алексей Олейников отталкивается от дня сегодняшнего. К 2035 году Россия будет полностью изолирована от внешнего мира, слова иностранного происхождения обретут русские соответствия, валютой станет алтын, детям будет запрещено передвигаться вне закрытых помещений без сопровождения взрослых. Весьма мрачная перспектива, если не воспринимать другую внутреннюю угрозу, довольно загадочного происхождения, выражающуюся в наконец-то достигнутой возможности пробить брешь в реальности и вступить в контакт с представителями неких миров, чьи обитатели скорее пожрут землян, не думая вступать в переговоры. Таким представляется будущее согласно «Левой руке Бога».
Катастрофа человеческая и катастрофа техногенная — два момента, требующие отдельного внимания. И по всем правилам построения нарастания напряжения в художественной литературе, Олейников не спешит показывать читателю ожидание грядущего краха. Представленные в сюжете действующие люди живут обычной жизнью, согласно заведённым в обществе порядкам. Им, конечно, интересно, чем именно занимаются сотрудники на рядом располагающемся секретном заводе и отчего в крупных городах страны происходят непонятные происшествия, после чего население эвакуируется и уже не спешит возвращаться обратно, но власти сохраняют молчание.
Перед читателем не взрослые люди. Всё внимание сосредоточено на подростках, чьё присутствие в сюжете сразу располагает к произведению аудиторию возраста главных героев. Школьные проблемы, впрочем, к происходящим в книге событиям имеют опосредованное отношение. Олейников скорее желал показать драму взаимоотношений, собравшихся вступить в совершеннолетнюю жизнь. У молодых людей имеются собственные проблемы, более обязывающие их к ответственному поведению, нежели участь стать свидетелями невероятных изменений на уровне осознания вступления человечества в эпоху нового понимания мироустройства.
Понятно стремление Олейникова смотреть на будущее под прицелом уже сейчас происходящих перемен. Россия действительно может перестать быть Федерацией, образовав некий Новый Союз, что бы под ним автор «Левой руки Бога» не понимал. Читатель в тексте встречает объяснение лишь стремлению россиян избавиться от иностранных слов, заменив их русскими. Подобное стремление всё громче становится обозначенным, подспудно опередив решение России отказаться от тесных связей с другими странами в угоду сохранения влияния без потери лица перед мировым сообществом. При этом Олейников не объясняет введение алтына вместо рубля, хотя это вполне вероятно, ведь новостные каналы в своё время эту новость активно сообщали населению. Также непонятно введение подобия комендантского часа, как и обрисовка будущего в виде антиутопии.
Несмотря на рост негативных настроений, описываемое Олейниковым готовит читателя к основному действию, полностью придуманному автором. Его суть сугубо фантастична, имеет вероятным происхождение вследствие научных изысканий — оно происходит стремительно, имеет сумбурную развязку и оставляет единственный жирный вопрос: И?
В части конфликтогенности подростков всё понятно. Им полагается ставить свои чувства выше мнения окружающих их людей, даже родителей. Они могут стремиться к независимости и совершать безумные поступки. В плане проработки психологической составляющей Олейников создал правдоподобную картину, а вот с домыслами о будущем, то есть прорисовкой катастрофы техногенной, у него не получилось. Ожидаемое будущее столкнулось с ирреальным, породив диссонанс восприятия.
Причина диссонанса не обязательно кроется в стремлении автора отразить фантастический элемент, внеся таким образом нечто новое и доселе невиданное. На самом деле, дыра в реальности ничем особенным не является, да и сама расстановка новых сил порождена религиозными предрассудками. Читатель снова становится свидетелем борьбы добра и зла, решивших развязать очередной виток конфликта извечного противостояния на многострадальной тверди, находящейся на перекрёстке их миров. Получается, не антиутопия, а скорее истинный апокалипсис, подготавливающий второе пришествие Иисуса Христа. Только Олейников не стал так основательно заглядывать вглубь описываемого и не дал читателю осознать причину происходящего на страницах книги. Поэтому у читателя остался всего один вопрос.
И?
Автор: Константин Трунин