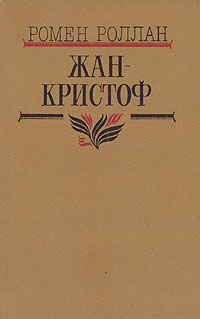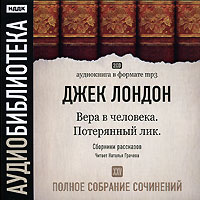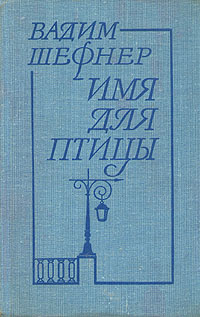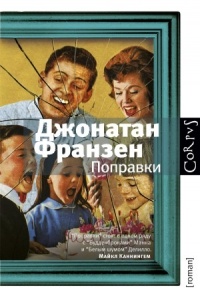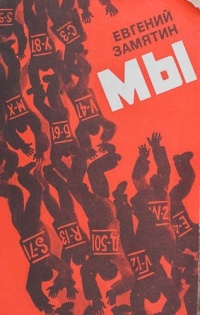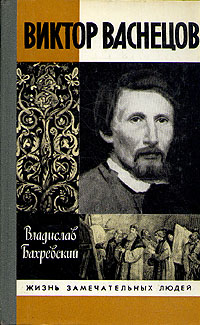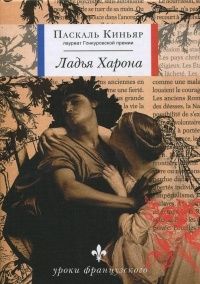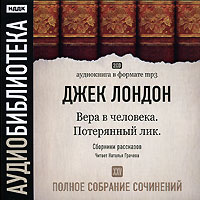
Сборники рассказов Джека Лондона — сущее наказание. Каким образом можно сказать в общем, не выделив конкретных работ? Это абсолютно невозможно. Не всегда у Лондона получались идеальные сборники, где внимания достойна хотя бы половина рассказов, но «Вера в человека» и «Потерянный лик» побили все рекорды по насыщенности содержания и заманчивости сюжетов. Большей частью Лондон ведёт повествование о столь любимом им Севере, предлагая истории сильных мужчин, дерзких женщин и отчаянных собак, разбавляя повествование не менее любимыми темами, вроде торжества социализма над капитализмом и невозможности сделать всех одинаково счастливыми.
Чем же на этот раз читателя удивит Джек Лондон? Про Север им сказано без меры много. Героям его рассказов отчаянно везёт, они претерпевают лишения и всё-таки встают на ноги, даже если приходится съесть для этого последнюю собаку из упряжки. Казалось бы, ничего не меняется. Но как быть с тем, что, оказывается, не каждая собака согласится быть съеденной? Животные у Джека Лондона уже не подобны псу из «Зова предков» и волку-квартерону из «Белого клыка». Они теперь наделены аналогичным стержнем, что и окружающие их люди. Совладать с такими представителями собачьего племени не так-то просто. А иной раз и вовсе невозможно. Скорее они выбьют из-под твоих ног жизненную силу, заставив повиснуть в петле, так и не найдя возможности с ними совладать.
Рассказ «Батар» — гимн собачьей воле и желанию жить. Будучи самовольным животным, терпящим нападки похожего на него хозяина, Батар никогда не согласится подчиниться. Ему претит контроль со стороны, давай лишь полную миску еды, держа кнут при себе, не смея расчехлять. Он будет стараться перегрызть хозяину горло, пока тот будет его душить в ответ. Север населяют суровые существа, не собирающиеся подчиняться обстоятельствам. Кому-то их них всё-таки суждено одержать верх или они погибнут в непрекращающейся борьбе. Желаешь действующим лицам рассказа обрести разум, внутренне понимая тщетность попыток взывать к разумности. Джек Лондон во всех красках доведёт повествование до логического конца, показав исход таким, каким он бывает в случае сражения равносильных соперников.
Да, сильным человека делает его окружение. Ежели вокруг будут слабаки, то и человек не сможет почувствовать полную силу доступных ему возможностей. Дерзость питомцев допустима. Совладать же с природой гораздо сложнее. Не раз читатель видел морозостойких героев рассказов Джека Лондона, ловко скидывавших промокшую одежду, облачаясь в заранее подготовленную сухую сменную. В короткой истории под названием «Развести костёр» читателя ждёт нетипичная ситуация, когда действующее лицо пытается спастись от пробирающего холода, для чего нужно всего-то развести огонь. Отчего-то в данном рассказе у главного героя это не получается. Руки схватывает, стоит им соприкоснуться с воздухом вне варежек, а ведь иначе спички зажечь не получится. На глазах читателя человек борется из последних сил, осознавая подкрадывающуюся смерть, если не найдёт в себе скрытые резервы. Удивительно, Джек Лондон полон решимости свети его в могилу, пуская спички в расход и создавая оду отчаянному мужеству, сведённому к праву людей чувствовать томление тела от исходящего от костра тепла.
Человек не может совладать с собаками, преодолеть силы природы. Вместе с тем, он не в состоянии отделаться от связывающих его обстоятельств. Вновь в качестве наглядного примера Джек Лондон использует представителя рода псовых, по прозванию Пятно, посвящая ему одноимённый рассказ. Этот дьявол в собачьей шкуре способен довести до гибели так называемых хозяев, всюду их преследуя и являясь ночным кошмаром, из озорства уничтожая съестные припасы и доводя до немощи подобных себе четвероногих существ. От Пятна никак не получается избавиться. Он — сущее наказание и причина психических расстройств. Ладно бы дело ограничивалось холодным климатом и неблагоприятными обстоятельствами, так беда оказывается может приходить и с совсем неожиданной стороны. Пятно — истинно дьявол. Его истовый нрав достоин поэтики, но был обрамлён только в рассказ Джеком Лондоном. И это радует. На Севере слабым места нет, особенно тем, кто не может управиться с зарвавшейся собакой.
Впрочем, обстоятельства бывают разными. Всем известный город золотоискателей Доусон может быть всё-таки не таким известным. Пускай туда устремляются потоки драгоценного песка, а также продукция, обязательно найдутся люди, желающие поживиться за счёт чего-то иного. Например, главный герой рассказа «Тысяча дюжин» решил доставить в город соответствующее число замороженных яиц. Он подобен исчадию ада, загоняя подручных индейцев, недоумевающих от его неистового желания загнать если не себя, то их в гроб, стараясь довести груз в кратчайшие сроки и озолотиться. Как всегда случается на Севере — обстоятельства оборачиваются против него. Он может есть собственных собак и плотоядно поглядывать на индейцев, но не задумается отведать часть перевозимого груза. Джек Лондон снова суров к главному герою, каждый раз давая ему очередную надежду, дабы после её отобрать. Сильные люди способны совладать с любой неприятностью. Однако, Лондон снова противоречит себе, возводя перед героем последнюю непреодолимую преграду.
Какое же ещё обстоятельство может помешать героям рассказов Лондона? Оказывается, лёгкое отношение к жизни тоже может сыграть злую шутку. «Золотое дно» всегда есть под ногами каждого из нас, нужно всего-то его держать при себе и не отдавать кому-то иному, каким бы безнадёжным оно тебе не представлялось. Размеренно повествуя о золотоискателях, Лондон не сразу даёт читателю понять суть предлагаемой истории. Героям может привалить счастье, от которого они откажутся, они даже могут это счастье опосредованно продать, отказавшись от него повторно, чтобы совершенно случайно узнать отчего им так отчаянно везло на неудачи, когда настоящее богатство ими постоянно отталкивалось. В жизни всегда нужно держать глаза шире, нежели возможно, а руками обхватывать больше, нежели хватает сил, иначе та самая малость, куда недосмотрели глаза и не дотянулись руки, окажется той самой золотой жилой, без которой всё остальное не стоит и самой мелкой разменной монеты.
Обстоятельства! Куда им до судьбы женщин Севера, вынужденных терпеть мужчин, чья забота не о воспитании потомства, а сугубо о поисках золотого песка. Какими бы путями не шли герои Джека Лондона, но они понимают необходимость мириться с действительностью. Трудно правильно рассудить участь героинь, обласканных и брошенных. Им остаётся ждать благоверных у очага или самим их искать. И ведь идти придётся в неведомые им земли, где им предстоит пасть духом, наблюдая некогда своего мужа, теперь отцом совершенно чуждого её культуре семейства. «История Джис-Ук» — одна из печальных сторон внимания Джека Лондона к женскому полу.
«Замужество Лит-Лит» дополнительно обнажает трудность социальной адаптации женщин, чьё мнение важно, но существенной роли не играет. За право быть мужем главной героини может развернуться серьёзное противостояние среди претендентов. Нужно ли это самой Лит-Лит? Возможно, что она предпочла бы другую судьбу. Пусть читатель судит сам об этом рассказе, как и о сюжетах историй «Золотой Луч» и «Остроумие Порпортука».
Есть смысл ознакомиться также с рассказами «Вера в человека», «Гиперборейский напиток», «Потерянный Лик», «Поручение» и «Исчезновение Маркуса О’Брайена». В каждом из них есть свои особенности и, конечно, обстоятельства, которые действующим лицам стоит преодолеть, дабы найти избавление от суровых реалий. Вполне случает так, что и на смерть стоит идти с помощью хитрых уловок, когда того требуют ситуация.
Совершенно иной сюжет ждёт читателя в рассказе «Голиаф». Социалистические взгляды Джека Лондона хорошо известны. Ему, как выходцу из рабочего класса, хотелось видеть достойное отношение общества к ему подобным. К сожалению, со времён начала технических революций, рабочие не могли рассчитывать на достойное к себе отношение. Читатель помнит, что Джек Лондон в «Железной пяте» уже поднимал тему многовековой борьбы пролетариата с хищной политикой капиталистов. В «Голиафе» Лондон решает взглянуть на ситуацию с помощью доброхота, создавшего уникальное оружие, поставившее государства всей планеты перед необходимостью выполнить его требования. И вот, казалось бы, вечное счастье наступило. Для этого требовалось не так много, сколько думалось. Логически желания Лодона читателю понятны. Другое дело, что описываемой им утопии существовать не может в силу заложенного в человека природой закона противоречия и постоянного недовольства.
Ярким доказательством служит рассказ «Золотой мак», повествующей о хозяине макового поля, который с восхищением наблюдал за радостью горожан, срывавших красивые цветы. Им достигнуто личное счастье, он таковым делится с другими. Но его поле тает на глазах, чужую доброту никто не замечает, горожане оказываются хищными акулами, плюющими на доброе к ним отношение. Ежели попросить заплатить за сорванные цветы, то тебе же укажут на обязанность заплатить уже им, поскольку они потратили время, пока срывали маки, хотя могли заниматься более полезными делами.
Кажется, проще закрыться от всех, не позволяя себя тревожить. Проблема в том, что нужно либо уходить из жизни, когда тебе всё будет уже безразлично, либо терпеть и подстраиваться под обстоятельства. Выбора на самом деле нет — нужно исходить из имеющихся условий, да не тратить время на разговоры. Единственной верной точки зрения не существует, поэтому стоит ли хоть кому-то верить, даже литературным критикам, толкующим произведения тем образом, которым им кажется более правильным? Воля читателя верить, его же воля искать в размышлениях критика противоречия. Таковы обстоятельства.
Автор: Константин Трунин
» Читать далее