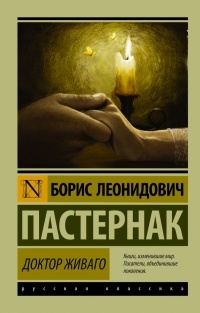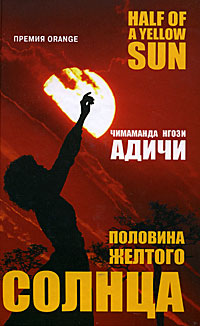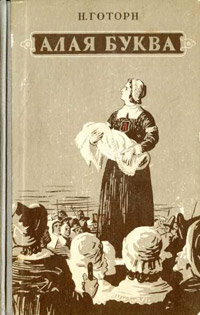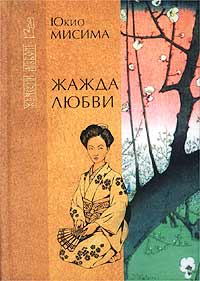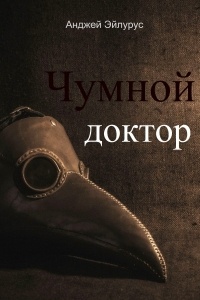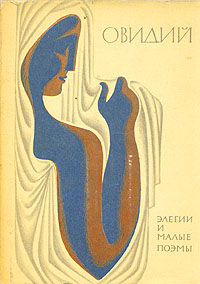Борис Горбатов «Моё поколение», очерки, корреспонденции (1931-36)
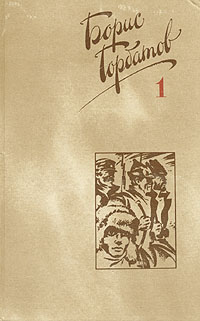
Лауреат Сталинской премии Борис Горбатов не проявлял радости к народившемуся советскому государству, а наоборот, с предельной точностью, отображал происходившие в обществе изменения, суть которых сводилась к мрачному осознанию голодной действительности при тотальной безработице. Кажется, такой автор не мог пройти цензуру в силу очевидных причин. Однако, Горбатова с удовольствием печатали и допускали к участию во всех значительных стройках Советского Союза. Причина этого проста — Борис не капал желчью, подобно ушедшим в тень писателям, а с радостью принимал рост самосознания сограждан. Ведь так и есть на самом деле — сколько не сетуй на жизнь, а стоит всего лишь принять настоящее, как будущее окрашивается в радужные тона.
Горбатов своеобразно описал собственные молодые годы в произведении «Моё поколение». Его стиль схож с работами Александра Серафимовича, то есть главным для Бориса становится выплеск эмоций на страницы, что создаёт у читателя ощущение погружения в происходящее. Будто кто-то вокруг галдит, а читатель зачарованно стоит в углу разворачивающейся перед ним сцены. Тем интереснее наблюдать за судьбой мальчишек, чей город попеременно переходит от белых к красным. Горбатов не идеализирует — бойцы противоборствующих сторон ничем друг от друга не отличаются, действуя одинаково, распевая схожие песни и толком не зная, ради чего воюют. Под удар попадают семьи мальчишек, на глазах читателя становящихся сиротами и отныне вынужденных озлобиться на тех и других.
Отчего-то больше веришь именно Горбатову. Отражение событий под его пером кажется соответствующим ушедшим в прошлое событиям. Советское государство становилось тяжело: нельзя было найти себе место в жизни, покуда проводимая властями политика усугубляла и без того ужасное положение населения. Мальчишки желали трудиться, учиться и слыть нужными членами для общества. Их желания трудноосуществимы: работать негде, учиться невозможно, да и нет в людях нигде нужды. Хорошо себя чувствуют только нэпманы, разжиревшие от благоприятных условий, бесконтрольно продолжающие набивать бездонную торбу.
Единственное успокаивает читателя: Горбатов знает, что эти трудности будут преодолены и наступит идеальное время для жизни. Собственно, тридцатые годы для советского государства — время могучих свершений, когда человек обрёл способность повелевать силами природы, едва ли не меняя русла рек и влияя на изменение климата на планете. Об этом Борис постоянно писал, будучи корреспондентом газеты «Правда», куда отправлял беллетризированные заметки из разных мест страны, поскольку лично участвовал в первых запусках многих важных объектов. И делал он это с трепещущим сердцем, ведь мечты его детства осуществлялись.
Но! Горбатов всё-таки видит и в идеальных условиях проблемы, касающиеся в первую очередь человеческого фактора, особенно халатности. Кто-то где-то недосмотрел, недоработал или всерьёз не воспринял возникновение серьёзных проблем, как самоотверженный труд честных людей оказывался напрасным. Требовалось отдавать всего себя, лишь бы исправить чужую оплошность. И вот, наконец-то, объект запущен. Все рады — рад и Горбатов.
Ещё одной особенность характера советских людей тридцатых годов была жажда к установлению рекордов. Смены соревновались, применяя различные усовершенствования, позволяющие проделать больший объём работы. Горбатов делится с читателем историей нескольких особо отличившихся людей, начиная со Стаханова, совершившего своё достижение недалеко от тех мест, где Борис Горбатов непосредственно родился. Разве не будут после этого писателя переполнять эмоции? Он невольно стал причастным к свершению знаменитого шахтёра, чьё имя ныне является нарицательным.
Читая Гобратова, читатель понимает, — проблемы в обществе были, есть и навсегда останутся, но из этого не надо делать ещё одну проблему; следует переосмыслить понимание своего недовольства, сумев найти силы для подавления собственного Я в угоду интересам государства, иначе грянет слом старого, а заодно произойдёт и потеря равновесия минимум на одно десятилетие, что, в свою очередь, способно породить проблемы большего масштаба — именно этого следует избегать любыми способами.
Автор: Константин Трунин