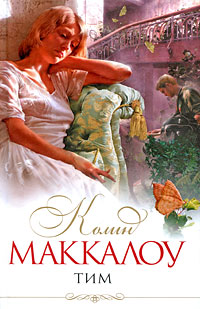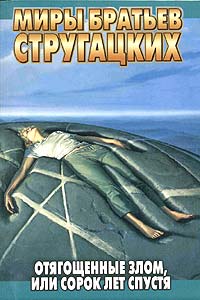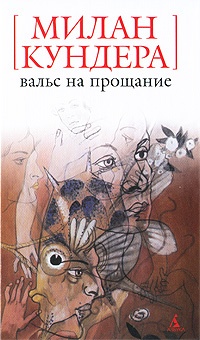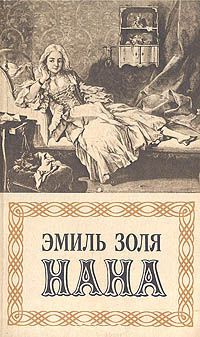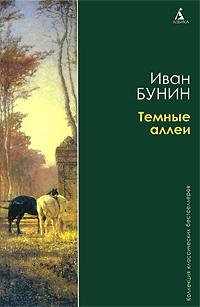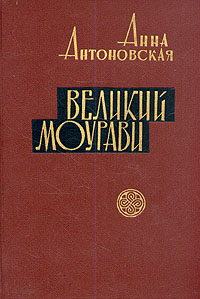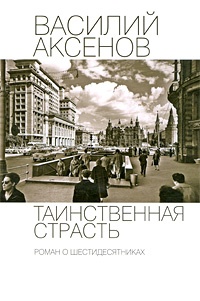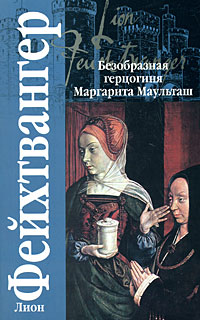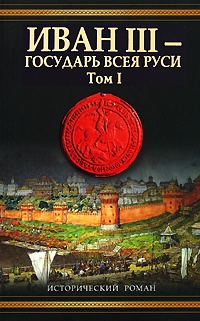Джоджо Мойес «После тебя» (2015)
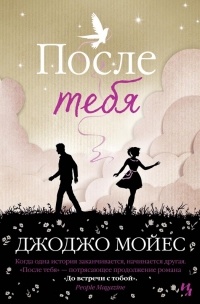
Вы когда-нибудь видели, как белка бегает в колесе? Сам по себе механизм сохраняет неподвижность и не приковывает внимание, если не трогать. Но стоит белке его задействовать, как колесо начинает крутиться, с каждым оборотом всё больше её интригуя. Получается, белка развлекает себя и доставляет удовольствие наблюдателям. Примерно таким же образом рассказывает историю и Джоджо Мойес, взявшая всё лучшее от манеры Сидни Шелдона. Ничего плохого в этом нет, но со временем начинает утомлять, как и бег белки в колесе.
Просто так события у Джоджо не развиваются — обязательно присутствует скрытый подтекст, порой всплывающий через сто и более страниц. Читателю остаётся недоумевать от собственной неосмотрительности. В самом деле, разве нельзя было сразу провести параллель между детским окриком и появившейся из ниоткуда новой героиней? Или здраво оценить то обстоятельство, из-за которого действующие лица не могут себе найти места, оказавшееся сущей ерундой, практически недостойной внимания? Всё это начинает восприниматься с усталостью, стоит произведению миновать середину. Стремление автора всему придавать несколько значений делает повествование однообразным.
Присутствие в сюжете крыши означает чьё-то падение, «скорой помощи» — смерть, добрых намерений — разочарование, злых умыслов — благое избавление. Шаг за шагом Мойес ведёт главную героиню по жизни, не давая читателю передышки. В подобной круговерти скучать невозможно, а жить бесполезно. И пускай Джоджо преподносит историю в виде череды неудач, ведущих к счастливому завершению. Читателю требуется именно это, чтобы разбавить скуку серых будней, прикипев к горькой участи других.
Главной героине есть от чего страдать. Недавно покончил с собой горячо любимый ею человек. Как быть теперь и куда двигаться? Совсем неважно, что мимолётное мгновение прошлого превозносится писателем в качестве самого главного события в жизни. Может и случается так, когда прожив более тридцати лет толком и вспомнить не можешь о минувшем, кроме того самого дня, позволившего переосмыслить существование. Разумеется, отныне ты представляешь из себя жалкое существо, которому требуется время для исцеления от ещё не заживших ран. И если вдруг ты не упадёшь с крыши, а попадёшь в другую смертельно опасную ситуацию, то все сочтут тебя отчаянным человеком, решившим свести счёты с жизнью. Так и должно быть, если твоими поступками руководит творец, поставивший целью наполнить именно твою жизнь горестными событиями.
Мойес отчасти интригует. Под её пером оживает обыденность лондонской суеты. Радужного в Англии найти не получается. Либо страна вырождается, либо деградация человеческих ценностей только начала набирать обороты. Где-то на фоне зеленеет трава и плещется море, а читатель вынужден читать о мрачных закоулках столицы некогда самой большой в мире империи. Все действующие лица от чего-то страдают. Если главной героине не хватает утраченной опоры, то и остальные несчастны в той или иной степени. Никто ещё не знает о бразильском столе для всех них под занавес повествования, поэтому подвержены страстям и самоедству, не имея желания принимать кого-то со стороны, какие бы проблемы у некогда им знакомых людей не возникали.
Конечно, творцу лучше знать, зачем героям произведения поступать определённым образом. Коли необходимо наладить связь между двумя действующими лицами, то какое значение до того, что логика в происходящем будет полностью отсутствовать. В попытке наладить контакт с близким родственником нет ничего лучше, чем обратиться к постороннему человеку, а не к представителям своей же родни. И так уж получается, что Джоджо Мойес строит повествование через задействованных повсюду посредников, без которых сюжет вышел бы более линейным и не содержал никаких интриг.
Хватает на страницах не только горя, но и любви. Настрадавшись, главная героиня всё-таки должна придти к согласию с собой. Она довольно ветреная натура и легко забывает прошлое. Некогда один важный момент из её памяти может быть стёрт начисто, стоит ей найти новое увлечение. И если читатель думает, что после всех приключений будет поставлена финальная точка, то заблуждается. Остановить колесо можно лишь на время, а потом белка побежит снова.
Автор: Константин Трунин