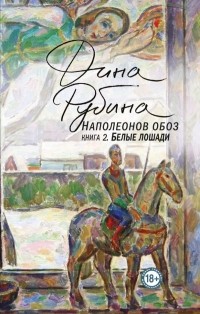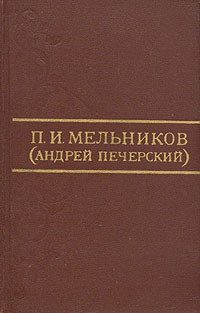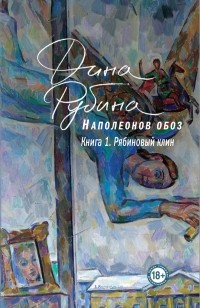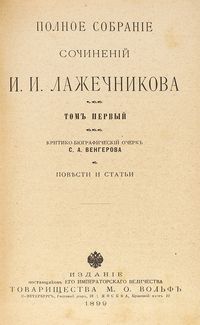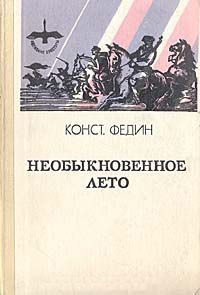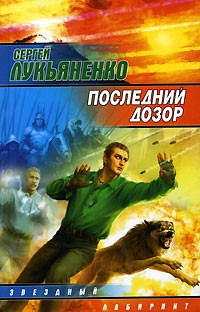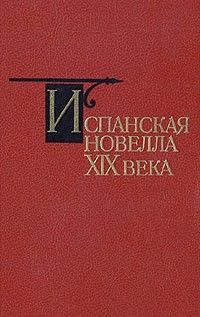Любко Дереш «Немного тьмы» (2007)
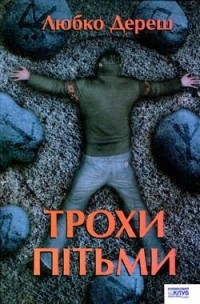
Писатель, хочешь писать? Так пиши! Не смотри, каким образом это воспримут окружающие. Ты живёшь в такое время, когда всё дозволяется. Либо ты живёшь там, где тебе так позволяют делать. Или тебе настолько безразлично, как будешь понят читателем, что способен презреть абсолютно всех, кроме себя. Вот с таким настроением должен был подходить Любко Дереш к новой книге. Вновь он не посчитал нужным задуматься, для кого и для чего создаёт своё повествование. Вновь такие же герои, какие были прежде. И ситуация аналогичная, почти не имеющая различий. Только теперь Любко решил взять массовостью, собрав всевозможных фриков под обложкой. То есть внимания читателя ждёт клуб по интересам, в котором сошлись отбросы общества. Но это для читателя они таковыми окажутся, тогда как они сами думают иначе, представляя, будто занимают особое положение в обществе. Зачем же кривить душой? Трэш — есть трэш… и не надо стесняться в том признаться, ведь известно: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Давайте представим, где-то льётся хмельная брага, там славные воины празднуют накануне битвы, предвкушая Вальгаллы пир. Где-то сливается азарт с риском разорения, как то происходит от упоения на тотализаторе, а то и держа руку на пульсе изменения биржевых котировок. Где-то исходит на крик группа танцоров, создавшая красивое творение для распространения посредством соцсетей. Где-то математик в молчании проводит ночи перед чистым листом бумаги, должный вот-вот создать формулу формул, отправляя в былое теорию относительности. Где-то писатель творит нечто такое, чему предстоит прославить его имя в веках. Где-то форсайты скупают бесценное, придавая ему значение дороговизны, от чего пребывают в состоянии искреннего упоения. А где-то собираются наркоманы, суицидники и прочий сброд, находящий способность получить сиюминутное удовлетворение, презрев абсолютно всё. Последние и являются героями книги Дереша.
Согласно христианского канона — человека создал Бог по образу и подобию своему. Согласно другого канона, тело человека создано дьяволом, тогда как жизнь в него вдохнул Бог. Из этого возникало побуждение бороться с желаниями плоти, тем истребляя дьявольское изначалие. Из чего тогда исходят действующие лица произведения? Может они думают, будто Бога и вовсе нет, а есть вездесущий дьявол, как раз и создавший человека, тогда как именно Бог должен прилагать усилия в стремлении обратить людей на путь постижения блага? Подобные рассуждения — лишнее. В героях Дереша — в людях — нет ничего человеческого. Вернее, плоть остаётся плотью, ибо грязь остаётся грязью, как не пытайся отмыть, скорее начисто смоешь. Хоть снова проводи разделительную черту между словами «мразь» и «тварь», напоминая, насколько они противоположны друг другу.
Дереш не прикрывал поведение действующих лиц, показывая их быт в естественном состоянии. Кругом грязь (та самая грязь), крысы, насекомые (по образу и подобию приставшие). Ничего положительного, кроме возникающего отвращения. То есть Дереш пытался читателя предостеречь? Неужели (правда?) прежние авторские искания предстали перед стеной отторжения? Или в таком должна заключаться собственная романтика, как неизбывная панковская прелесть немытых тел и измазанных соплями волос? Вполне возможно, судить о том лучше не пытаться.
Творчество Дереша надо понимать в качестве предостережения. Когда в обществе начинают откровенно рассказывать о подобном, считая за нормальное явление, то означает скорый закат, предвещающий должное последовать разложение представлений о должном быть. А зная (подлинно зная), к чему выведет кривая через тринадцать последующих лет, нисколько не удивляешься, скромно ожидая конца, ибо лучше конец, чем взирать на Содом и Гоморру в виде деградации моральных ценностей западной культуры.
Автор: Константин Трунин