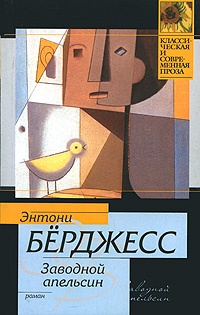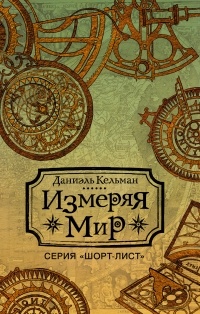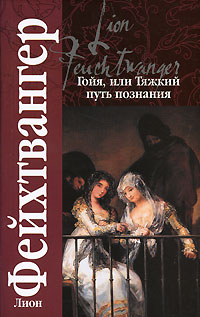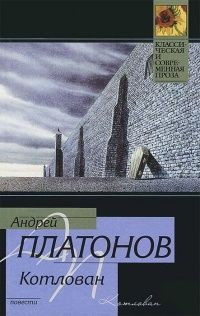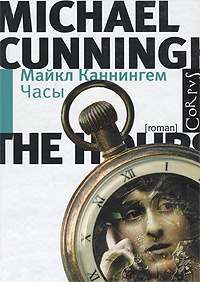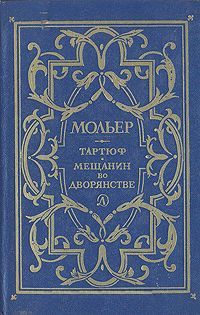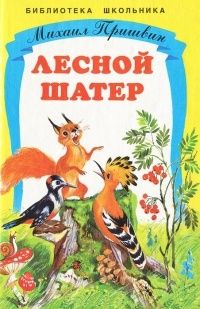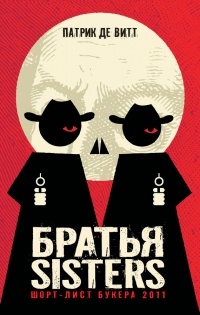Антон Чехов «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» (1895-1903)
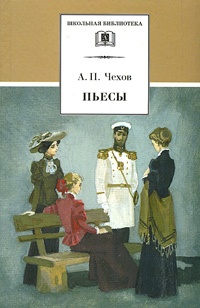
Пьесы Антона Чехова можно смотреть в театре или на экране, но никак не читать. От внимания ускользает понимание происходящего — оно теряется за каждодневной рутиной. Представленные автором герои в тексте не имеют ярких отличительных черт, они не воспринимаются живыми действующими лицами. Скорее читатель их примет за декорации. совершающие монотонные движения, покуда не придёт пора вставить веское слово в виде определяющей действительность истины, ради которой Чехов и утяжелял пустотой пространство, чтобы донести до людей несколько дельных мыслей, благодаря которым в его произведениях присутствует чёткое определение происходивших вокруг него процессов.
Читатель понимает, знакомясь с пьесами, что в его руках только сценарий для представления. Чехов указывает к кому направлены слова действующих лиц и когда следует опуститься занавесу, какие декорации должны быть установлены на сцене и как герои будут с ними себя соотносить, а также с теми обстоятельствами, которые недоступны взгляду зрителя, вроде слышимых откуда-то выстрелов, звуков рубки топором и прочих. При достаточно богатой фантазии читатель самостоятельно построит в своём воображении нужные картины, наделив действующих лиц личным видением. Однако, актёры могут представить любой образ, поскольку интерпретировать описываемое Чеховым можно разным образом. Где читатель предполагает ранимую тонкую душу, там зритель может увидеть прожжённую оторву. Возможно, поэтому пьесы Чехова так сильно ценятся и в наши дни — они легко адаптируются ко всевозможным временным отрезкам, ситуациям и национальным особенностям.
При всей неспешности разворачивающихся историй, Чехов изначально создаёт предпосылки к развитию дальнейших событий, помещая в сюжет намёки. То, что события обязаны завершиться трагическим образом, читатель, после нескольких пьес, начинает воспринимать особенностью авторского построения повествования. Метания и довлеющие над действующими лицами желания обязаны привести к непоправимому, пусть и не от тех обстоятельств, так подробно представляемых до этого писателем. Чехов постоянно уводит читателя от основных событий, предлагая размышления на всевозможные темы, вплоть до цирковых представлений, никак на сюжет не влияющих, но позволяющих растянуть отведённое для театрального представления время.
Ещё одной особенностью пьес Чехова является обязательное ощущение упущенных возможностей, особенно остро возникающих после того, как занавес опускается в последний раз. Действующие лица совершали поступки, не предполагая трагического исхода, продолжая надеяться на относительно спокойное будущее или на то, что ничего не поменяется, изо дня в день повторяясь в прежнем виде. Отнюдь, Чехов больно бьёт по их миропониманию, обрывая жизни одних и отравляя дальнейшее существование всех остальных. Действующие лица могут быть прагматичны, мнительны, застенчивы, легки по жизни, но стоит начаться последнему акту, Чехов рушит размеренные будни шокирующими сценами, прежде всего говоря о невозможности повернуть время вспять, исправив допущенные ошибки. Впрочем, читатель уверен, дай Чехов действующим лицам возможность переосмыслить поступки, то они поступили бы снова точно так же, ведь иного быть не может: человеку не дано исправить себя, как бы он не пытался это сделать, навсегда оставаясь глухим к мнению окружающих его людей.
Воспринимать пьесы Антона Чехова стоит подобно вишнёвому саду, относясь к ним с любовью, воскрешая приятными воспоминаниями, но понимая уродливость вишнёвого сада вообще, как он есть на самом деле. Также нужно понимать особенность вишнёвых деревьев — сколько их не руби и не выкорчёвывай, они всё равно будут продолжать расти, являясь таким же сорняком, каким являются малина и хрен, пусть и принято их считать культурными растениями.
Автор: Константин Трунин