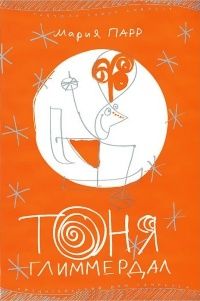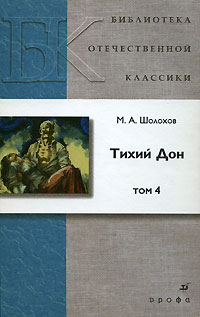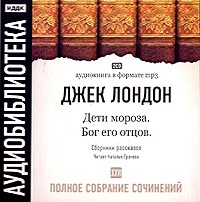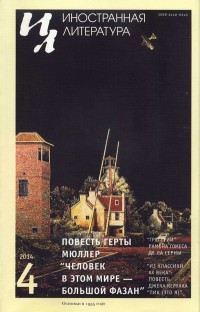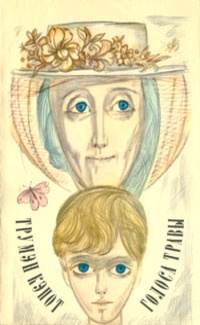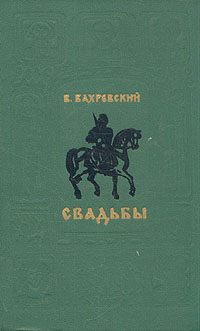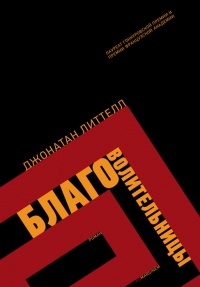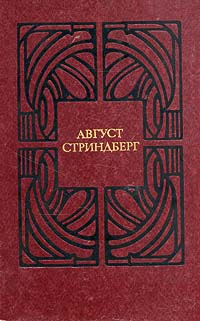Ричард Хьюз «Лисица на чердаке», «Деревянная пастушка» (1961-73)
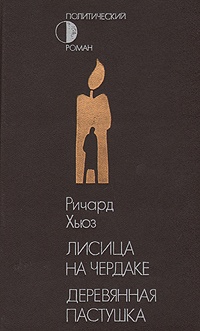
Когда человеку хочется писать — он пишет. У него это может получаться хорошо, а может и не получаться вовсе. Имеется ряд факторов, влияющих на творческий процесс. Мало усидчивости и желания, нужно иметь определённые представления о чём хочется рассказать читателю. Порой случается следующее: загоревшись замыслом показать приход к власти Гитлера, разбавив повествование буднями британских и немецких аристократов, удаётся всё реализовать, как и было задумано. Так у писателя Ричарда Хьюза родился роман «Лисица на чердаке». Но ему хотелось развить тему, для чего он в течение двенадцати лет писал «Деревянную пастушку», желая обосновать выбор Германией в качестве вождя амбициозного фюрера. Если с исторической точки зрения Хьюз знал о чём говорить, то он не знал, что делать с вымышленными персонажами, напрочь испортив отлично задуманное повествование.
Читатель не сразу понимает, о чём именно ему будет рассказывать автор. Хьюз водянисто подходит к отражению событий, ничего не сообщая, предпочитая описывать всё подряд. Для него ясно, зачем молодой человек несёт на плече труп девочки, почему пришёл в богатый особняк, почему всё именно так, а не иначе. Читатель об этом не знает, частично догадываясь. В понимании автором должного быть кроется манера английских писателей: скрупулёзно описывать детали, не давая конкретики, оставляя недоумевать внимающему истории. Позже Хьюз расскажет и о трупе девочки, и о молодом человеке, но сделает это так запоздало, что читатель может и запамятовать, так и не придав значения склонности автора говорить загадками, не предоставляя никакой конкретики, будто он сам не мог найти обоснование происходящему, оставляя его до лучшего времени. Если что-то Хьюз всё-таки не объяснил, то он мог просто упустить, либо ему не удалось придумать правдивое обоснование.
Плюсом изложения Ричарда Хьюза является выверенный подход к отображению событий прошлого. Один из главных героев — тот самый загадочный молодой человек — нечаянно ставший наследником двух состояний, поскольку его брат погиб при Ипре, а сам он встретил совершеннолетие после окончания Первой Мировой войны, отчего долго не мог осознать предоставившуюся ему возможность счастливо прожить до старости. Возможно Хьюз каламбурит, а может делится представлениями людей о пресечении любых попыток развязать ещё одну войну, способную выкашивать миллионы солдатских жизней за день. Молодой человек тоже не горит желанием допустить приход к власти тех, кто будет настаивать на развязывании вооружённых конфликтов.
В противовес истории британца, Хьюз даёт читателю представление о действительности со стороны немцев. Униженные, они, совсем недавно ставшие единой нацией, вновь разбрелись по разным лагерям. Часть требует вернуться к прежнему состоянию, иные ратуют за марксизм, монархисты не дремлют, а в Мюнхене зарождается движение национал-социалистов, ещё подавляемое, но умело пользующееся ростом противоречий себе во благо. Гитлер пока не так важен: его фигуру Хьюз показывает в виде убеждённого в своих принципах и задвигаемого на задний план политика, избиваемого полицией, вынужденного зализывать раны где-то на чердаке, без всяких надежд на осуществление планов, так как робкая попытка заявить о своих правах провалилась, многие полегли под градом пуль.
Немцев давила гиперинфляция. Хьюз наглядно демонстрирует, как цивилизованные страны специально гнобили Германию, давая деньги на таких условиях, дабы не было никакой возможности рассчитаться. Говоря в широком смысле, Хьюз никак не отражает, как именно это сказалось на рядовых немцах. Читателю представлены представители аристократии и национал-социализма. Без всякого объяснения со стороны автора, Гитлер на страницах обретает народную любовь и становится едва ли первым человеком в государстве, дожидающимся естественной кончины президента, чтобы воспрять над обстоятельствами и начать осуществлять задуманное.
Если изначально внутренняя политика Германии смотрится органично, ведь молодой британец приехал в эпицентр событий, происходивших в 1923 году, то вскоре присутствие Гитлера воспринимается нелепыми вставками, словно автору хотелось показать начало чисток, выхолащивающих старые кадры с твёрдыми убеждениями.
Минусом изложения Ричарда Хьюза становится провал в повествовательных линиях. Некогда ровно выстроенный сюжет, хоть и построенный из ответов на давным-давно возникшие вопросы, превратился в путешествие по городам и странам. Читатель следует за молодым британцем по США в составе малолеток-контрабандистов, где он — ангел среди подвергшихся раннему взрослению детей. С тем же успехом читатель наблюдает за турне по Африке, без особого на то смысла. Хьюз потерялся и не может дать читателю представление о том, зачем понадобилось писать о чём угодно, только не о том, что было бы более логичным.
Одна история без другой не смотрелась бы, но и вместе они не смотрятся.
Автор: Константин Трунин