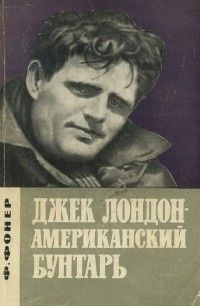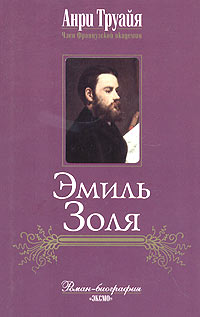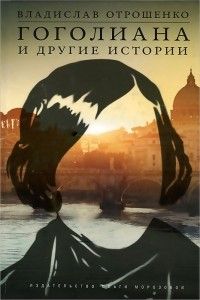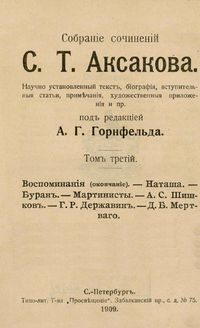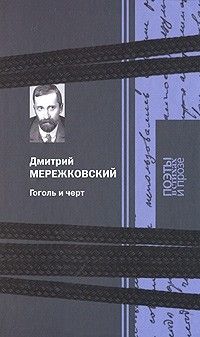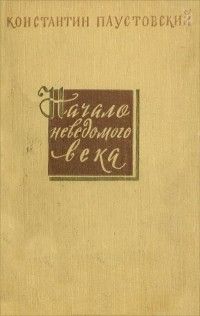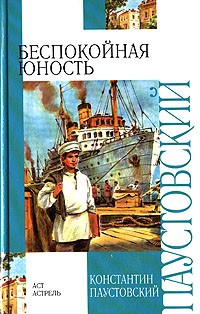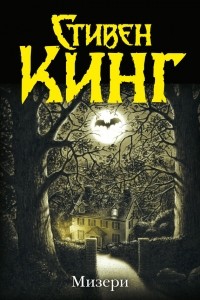Мария Куприна-Иорданская «Годы молодости» (1960)
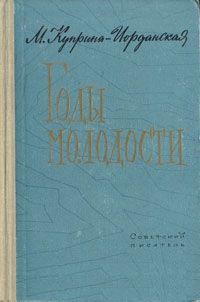
Куприну шёл тридцать второй год, когда он встретил двадцатилетнюю Марию. Их свёл Бунин, при самой первой встрече шутя на счёт будущей женитьбы. Свадьба вскоре состоялась, но и развод не заставил себя ждать. Преимущественно о том коротком отрезке жизни, практически восьмидесятилетняя, Мария написала воспоминания. Там Куприн выступил ярким творцом, литературным мыслителем, вхожим в писательское мастерство в разгар пришедшей к нему славы. Ещё не начал греметь «Поединок», но всё к тому шло, благодаря усилиям Марии. Когда они расстались, Куприн продолжил жить, через десяток лет удалившись в эмиграцию. И вернулся в Россию он затем, чтобы умереть на руках именно Марии — первой своей жены.
Воспоминания Куприной-Иорданской выполнены в духе беллетристики. Действующие лица на страницах воспринимаются в качестве исторических персон, они кажутся персонажами романа. Беседы с Буниным лишь предваряют повествование. На равных правах в «Годах молодости» появятся писатели Горький и Чехов, с теплотой относившиеся к Куприну. А сам Куприн — честный и порядочный человек, бравшийся не сколько сочинять рассказы и повести, а редактор периодического издания, готовый не жалеть времени для чтения трудов неизвестных литераторов, и, самое главное, предоставлять им место на страницах, чему противились прочие члены редакции, имевшие планы публиковать хотя бы малость именитых.
Куприн честен с другими и с собой. Как-то ему довелось ехать на поезде в вагоне для курящих. Он ехал не один: сопровождал недавно родившуюся дочь. Не умея словом добиться требования держать форточку открытой, Куприн предпочёл действие, разбив окно. Ему пришлось заплатить двойной штраф, зато никто не мог его укорить за совершённый проступок.
Известно, как Куприн относился к греческим рыбакам, с коими имел дело в Балаклаве. Он хорошо знал про их повседневную суету, став участником оной. И всё же честность в очередной раз проявилась в связи со вспыхнувшим на крейсере «Очаков» бунтом под руководством лейтенанта Шмидта. Став свидетелем Севастопольского восстания, Куприн отразил то в одной из статей, изложив всё по существу, выступив против официального замалчивания того происшествия.
Имел Куприн знакомство и с писателем Маминым-Сибиряком. Сошлись молодость и старость. Мамин устал от повседневности, собираясь писать сугубо для детей. Куприн же, наоборот, пылал желанием будоражить общественность. Тот самый «Поединок» всегда восхваляемый в мемуарах свидетелей его жизни и биографов, должен был показать истинную сущность армии. Из воспоминаний Марии читатель узнает, как она заставляла его приносить очередную порцию написанного каждый день, иначе не пускала домой.
Дальнейшее повествование — путь от произведения к произведению. Куприна-Иорданская взяла на себя обязанность музы, побуждая мужа искать материал для нового рассказа или повести. Совершенно отчётливо прописано, как знакомство с Рыбниковым побудило Куприна написать произведение «Штабс-капитан Рыбников», где всё выдумано от начала до конца. Но всё-таки не всё. Будучи человеком не совсем русских кровей, Куприн мог понимать чувства прочих национальностей, наводивших на сходство с японцами.
Когда молодые годы закончатся, писать Марии останется немного о себе и малость про Куприна. Чем он занимался в последнее десятилетие перед революцией? Как жил в эмиграции? Об этом не ей следовало писать. Сообщаемое читателю она сама знала из редких писем. Важно непосредственное прибытие Куприна в Россию. Он был встречен с сочувствием, с ласковостью принят, но он тогда уже умирал, о чём должен был знать.
Мария Куприна-Иорданская стояла у истоков некоторых проектов советской литературы, среди которых особенно примечательно участие в создании журнала «Новый мир». Может знакомство с Куприным и направило её мысли в соответствующую сторону. И очень хорошо, что она решилась написать о начале XX века, придав важное значение личности человека, некогда приходившегося ей мужем.
Автор: Константин Трунин