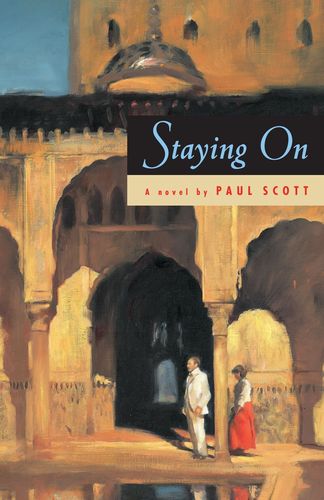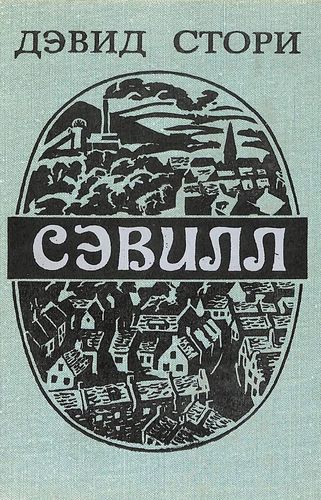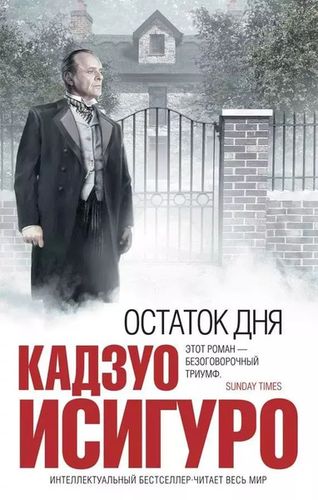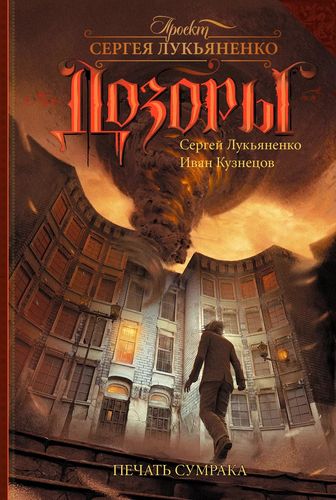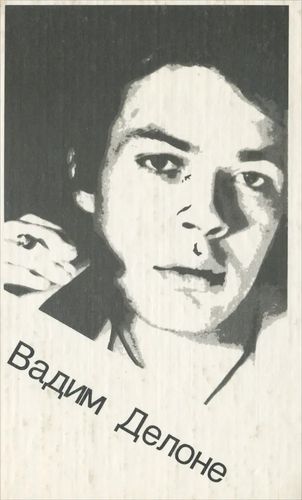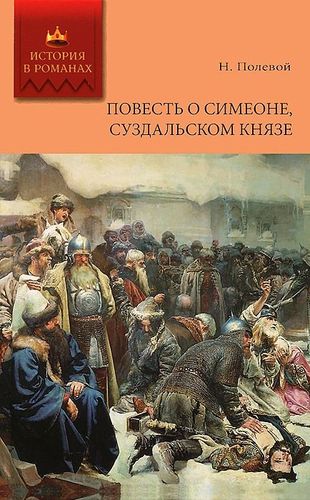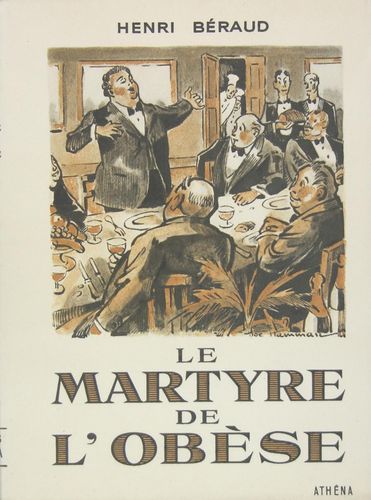Чеслав Милош «Долина Иссы» (1953-54)
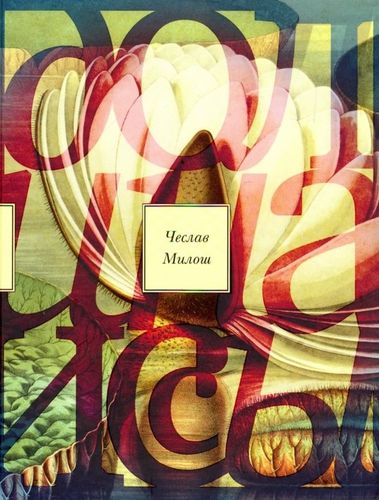
Тягучей длинной рекой протянулось повествование Чеслава Милоша по страницам «Долины Иссы». Оно не разливалось широкой полнотой, скорее напоминая нечто вязкое, готовое стать для читателя болотом. Очень тяжело будет даваться начало знакомства с содержанием. Но никаких ожиданий быть не должно — за время чтения ничего не произойдёт. Может это связано с незнанием должного последовать развития. Чеслав только предполагал, куда двинется течение времени. В момент написания он видел, как родные ему края были во власти противной для него стороны. И читатель поймёт причину, хотя бы в силу необходимости осознать сложившиеся для тех краёв обстоятельства. Долина Иссы — это мир между мирами. Впрочем, как и едва ли не повсеместно в Европе, на ограниченной территории населённой множественным количеством народностей. Отличие лишь в том, что для Милоша долина Иссы является более близким к представлению. Если читатель готов поймать мгновение юных лет писателя, пусть листает страницы аккуратно, вовсе не возлагая ожиданий.
Перед читателем дела польско-литовского прошлого, где прибалтийское сталкивается с остатками латинства. Насколько вообще поляки могут соотносить себя с располагающимися по соседству с ними народами? Есть ли в поляках возможность смирить им присущее чувство отстранения? Желая обособления, они раз за разом находят возможность объединиться, чтобы за последующие годы извести всё, полностью растворяясь в их окружающем. Как так получается? Вот взять для примера Чеслава Милоша, родившегося в Российской империи, в силу политических обстоятельств вынужденного становиться на ноги в Литовской Республике, а во время Второй Мировой войны — избегать нахождения в занимаемых советскими войсками землях. И всё же Милош — поляк, не смирившийся с послевоенным выбором польского народа, эмигрировал во Францию. Уже в Париже он, удручённый происходившими процессами, предался воспоминаниям, рассказав о своём прошлом глазами других.
Писать о буднях персонажа по имени Томаш показалось Чеславу недостаточным. Да и не выходило у него отобразить развитие бури, каким образом это получалось у других прибалтийских писателей, вроде Вилиса Лациса или Ааду Хинта. Вместо наблюдения за жизнью прибалтийских народов после падения Российской империи, читатель погружался в будни отстранённого времени, когда не сможешь установить, в каких временных рамках следует понимать текст. Милош решил — гораздо лучше наблюдать за амурными похождениями ксёндза, омрачившиеся отрубанием головы у трупа его зазнобы. Столь же важным посчитал пересказ истории о противлении Кальвина испанцу Мигелю Сервету, повелевшего последнего сжечь. Что от всего того для происходившего непосредственно в пределах долины Иссы? Остаётся полагать, благодаря таким описаниям читатель усвоит хотя бы крупицу из предложенного на страницах. А если текст вовсе не усваивался, то Чеслав не счёл за зазорное описать справление нужды.
Желающие вникнуть в содержание глубже, вольны найти прочие интересующие их выводы. Кто-то проведёт параллели между жизнью автора и представленным на страницах содержанием. Иным покажется за допустимое сравнивать произведение о детстве с трудами классиков. Кому-то даже померещится нечто из Толстого, но если только сугубо в плане обоснования незрелости предлагаемого к чтению повествования. Говорить можно о чём угодно, используя любой удобный способ, потому как о самой книге Чеслава Милоша этого делать не следует. Скорее придём к выводу — Чеслав был тяжело подавлен от происходивших в мире событий. Он оказался лишним для мест, где прежде жил, и от него отвернулись соотечественники в Польше. Успокоит его через двадцать пять лет оправданность в виде Нобелевской премии по литературе.
Автор: Константин Трунин