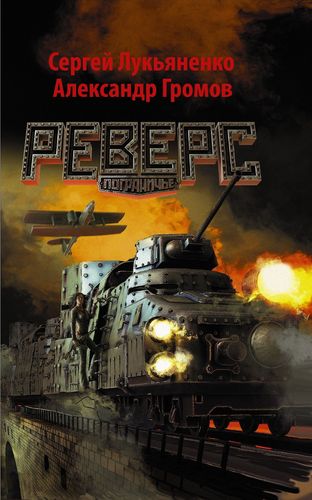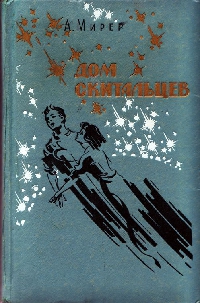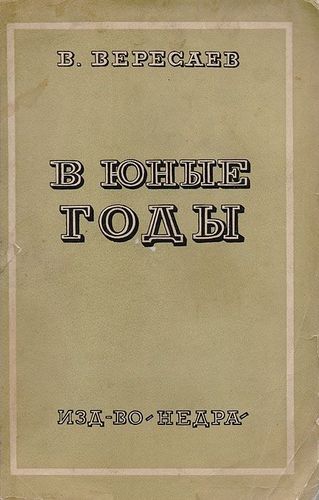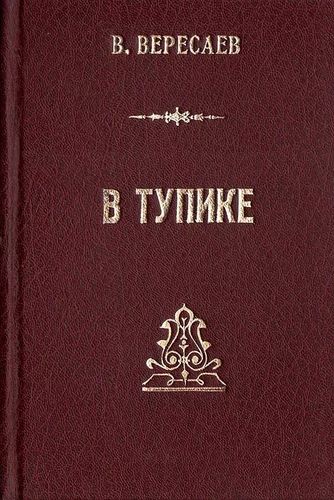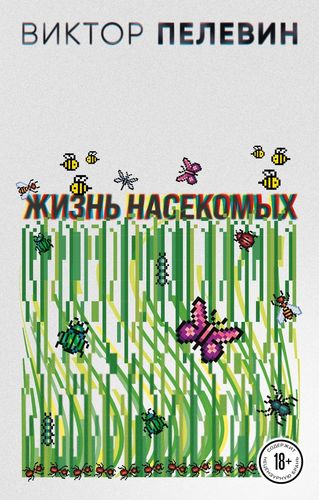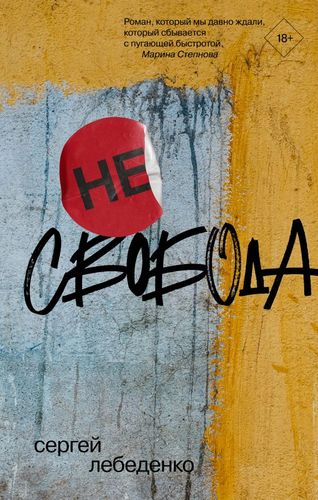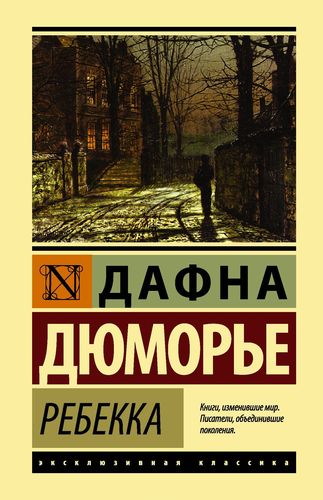Максим Горький — Произведения 1912-14

Сколько бы Горький не писал, оставленного им наследия хватит на долгое чтение. Порою он писал скорее из желания заполнить одолевавшую его пустоту. А что ему оставалось делать? Бесцельно бродить по итальянскому острову? Встречать и провожать гостей, так или иначе связанных с Россией? При имеющемся желании писать, оное будет всегда реализовано. Не станет за удивительное, если многое из созданного Горьким обойдёт читательское внимание стороной. По большей части оно и не требовало проявления интереса. Но всякий волен сказать, насколько неправильно судить подобным образом. Быть может есть подлинные исследователи творчества писателя, готовые прожить, ничем другим не занимаясь, кроме изучения оставленного Горьким наследия. Что же, интересы людей могут возникать спонтанно, становясь целью жизни. Поэтому нужно меньше рассуждать о постороннем, особенно сейчас, когда возник интерес к подобного рода интерпретации доставшегося потомкам материала.
К декабрю 1912 года относится повесть «Хозяин». Объёмное произведение, занимающее сотню страниц, первоначально обозначалось Горьким в качестве «страницы автобиографии». Читатель задумается, помня, что тогда же создавалось «Детство». А тут такое широкое отступление. Возможно имелось желание отразить один из моментов прошлого, когда Горький был в поисках работы, найдя оную в пекарне. И читатель вспоминает, как за порядка десяти лет назад о событиях в той самой пекарне написаны произведения «Коновалов» и «Двадцать шесть и одна». Почему не появилась идея объединить тексты? Хотя бы сугубо из-за невзрачности рассказанного в «Хозяине». Публикация повести состоялась в выпусках «Современника» с марта по май 1913 года.
В том же 1913 году Горький написал очерк-некролог «М. М. Коцюбинский», отразив своё сожаление касательно смерти писателя. Имея с ним знакомство на Капри, Горький отметил тоску Коцюбинского по родному краю, о чём бы не говорившего и не думавшего, мыслями всегда остававшегося с червонной Украиной.
В июньском номере журнала «Просвещение» Горьким опубликован рассказ «Лука Чекин», впоследствии перепечатываемый под названием «Кража». Узнавая историю его создания, связанную с посвящением Ивану Франко по поводу сорокалетия писательской деятельности, приходится недоумевать, видя на страницах разбойный грабёж средь бела дня. Каким образом это следовало понимать? Допустимость солдатам обирать служителей церкви? Или просто Горький вспомнил очередной эпизод из некогда ему ставшего известным?
Другое воспоминание — «Музыка» — за тот же месяц, опубликованное в газете «Русское слово», стало рассказом от первого лица. Должно быть Горький говорил о самом себе, как довелось ему быть на допросе у жандармского полковника, осматривать картины на стенах помещения, ловить тики на лице непосредственно жандарма, и слушать музыку, доносящуюся извне, потом сбежать из-под надзора, спрятавшись за портьерой, с целью увидеть, кто столь прекрасно исполняет. Читатель будто внимал происходящему на театральной сцене. И в качестве разъяснения произошедшего высказано наставление — музыку надо слушать в парке, а не на допросе.
За 1913 год Горьким ещё написана сказка «Самовар», впервые опубликованная в 1918 году. Без глубоких наставлений, не используя высоких эпитетов, описан спор посуды о луне, изредка сбивающийся на поэтическую форму изложения. Может Горький под действующими лицами подразумевал кого-то определённого, чего читателю установить не получится. Повествование будет интересно тому, кто увлекается чайными делами, собирая работы, где задействованы чайники и самовары. Тогда следует обязательно обратить внимание на данный рассказ.
Отдельно нужно упомянуть очерк «В театре и цирке», опубликованный в декабре 1914 года в «Русском слове». Горький делился воспоминанием о первом посещении театра, как хотелось ему придушить актёра, исполнявшего роль Иудушки Головлёва. Увиденным глубоко проникся. После рассказал о посещении цирка, восторженно отметив риск людей, готовых совершать опасные для жизни поступки, только бы привести публику в волнение.
Автор: Константин Трунин