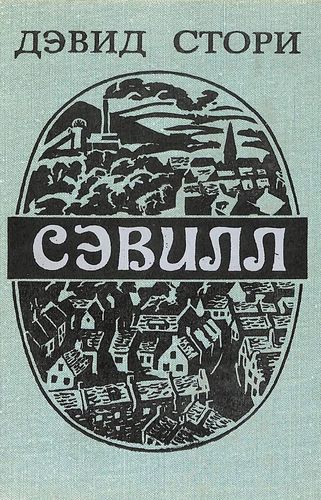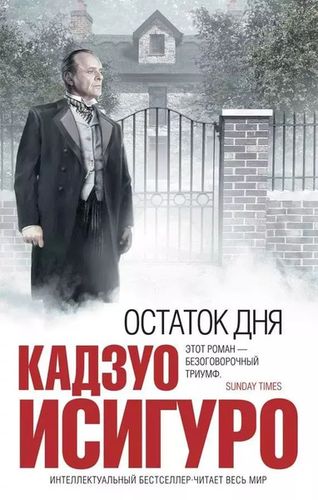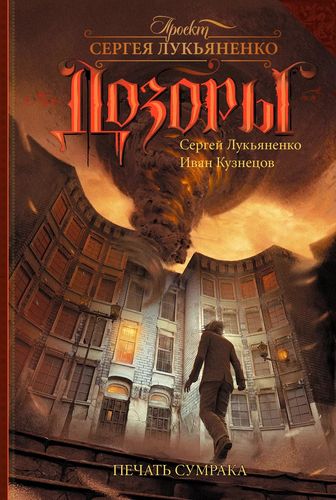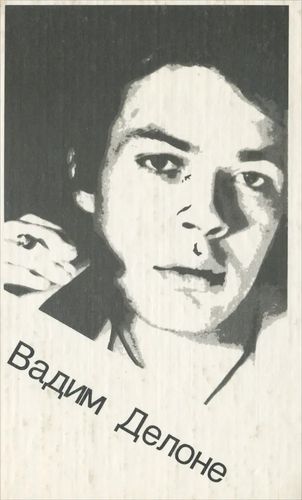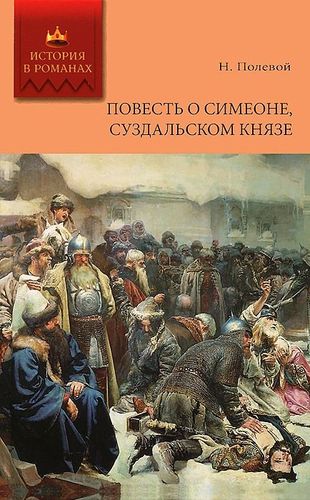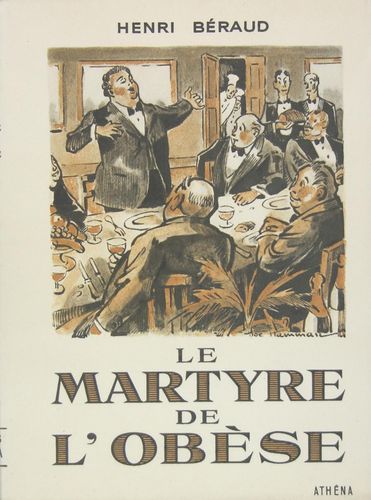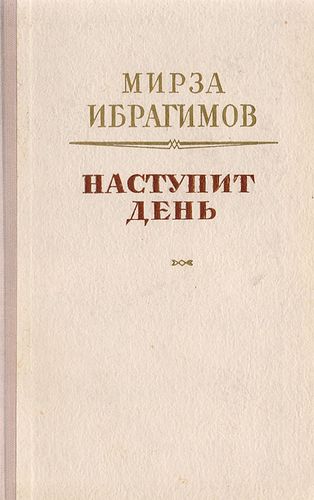Пол Скотт «Остаться до конца» (1977)
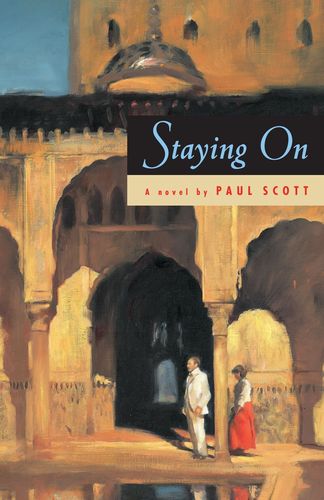
Куда ни кинь взор — везде Индия: таким образом можно охарактеризовать британскую литературу. Это так тяжело для самосознания англичан, продолжавших жить воспоминаниями об утраченном. И теперь Пол Скотт подводил черту под ушедшим в былое. Правда годом позже он умрёт сам. Новые поколения англичан будут лишены привязанности к Индии. Их будет интересовать что-нибудь другое. Например, они станут переживать за конфликт вокруг Фолклендских островов, чьё население считало себя подданными британской короны. Или станут следить за конфликтом с Исландией, вошедшим в историю под названием Тресковых войн. Но прежние поколения англичан тяготели ко дням былого великолепия, когда мало кому удавалось сломить волю Британской империи. И вот перед читателем роман, героям которого нужно осознать, насколько слабыми стали их позиции в местах былого доминирования. Только не получится понять в полной мере, каким образом что-либо подлинно поменялось. На момент начала описываемых событий — спустя двадцать пять лет после обретения независимости — словно ничего бы и не изменилось в укладе британцев и в самосознании населения Индостана.
Англичане у Пола Скотта типичные для представления о них. Этакие хозяева жизни — господа. Их ничего не учит, они всё такие же. Как не противься британской воле, не выражай недовольства и не устраивай восстания — перемен не наступит. В том числе и случившаяся независимость Индии не дала перемен. Ежели у кого-то и были противоречия, то у пакистанцев и индийцев. Непосредственно британцы продолжали доминировать над интересами тех и других. Они — господа, прочие — им прислуживающие. В чём могла скрываться причина? Остановимся на мнении — на малом количестве прошедших лет. Должно пройти больше времени, чтобы индийцы перестали воспринимать британцев за господ. Быть может для того нужно выбрать иной язык для общения многочисленных народов, или понадобится нечто иное. Пока же индийцы связаны британцами посредством влияния английского языка. И читатель это видит наглядно, внимая описанному Полом Скоттом.
Своеобразной квинтэссенцией самосознания индийцев становится тот, кто на страницах произведения исповедует христианство. Такой персонаж даже лучше для британцев, нежели индийцы, исповедующие какую-либо другую религию. Этот человек — Богом данный британцам в услужение. Может показаться, подлинный христианин. Ему надо позволить много трудиться, мало спать и изредка есть. Оплату за свой труд он постесняется просить. Грубо говоря, на его горбу можно выехать из любого затруднения. То есть такие индийцы по нраву абсолютно всем. И добейся британцы христианизации Индостана — вовсе не знать им никаких бед.
Оттого и не спешат англичане покидать Индию. Старые поколения уверены, сумеют дотянуть век в столь непросто складывающихся условиях. Прочее их не интересует совершенно. Пол Скотт потому начинал повествование со смерти главного героя. Сразу становилось понятно, далее так продолжаться не может. Или ты примешь изменения в жизни, уступая владения индийцам, или тебе навяжут условия невыносимого сосуществования. Потому и умирает главный герой, не сумев перенести нанесённый удар по британскому самолюбию. Останется погрузиться в прошлое, проследив этапы роста индийского становления. Знакомясь с содержанием, читатель продолжит оставаться в уверенности — коренным образом ничего не изменится. Мало ли какие требования будут выдвигаться в последующем, жизнь самих индийцев претерпит минимальные изменения. Для понимания этого следовало прожить ещё тридцать лет, чтобы вновь оглянуться назад, увидев последующее развитие событий. Пол Скотт того сделать не мог в силу естественных причин. Однако, Букеровскую премию на исходе жизни за «Остаться до конца» он получил.
Автор: Константин Трунин