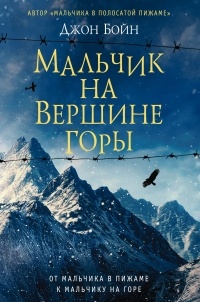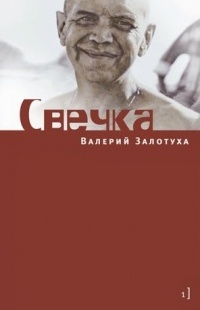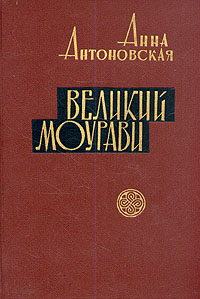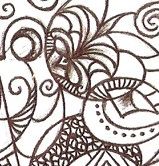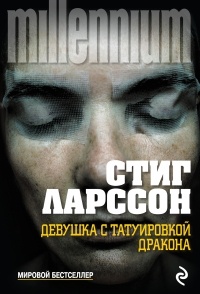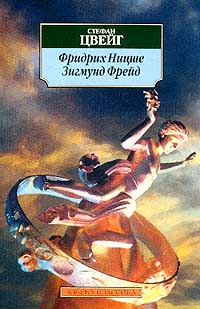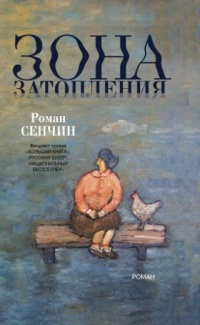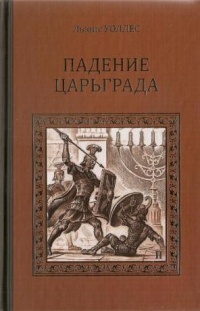Иван Бунин «Окаянные дни» (1926)
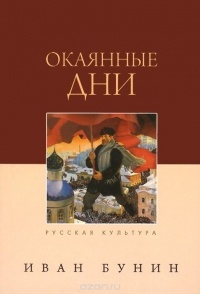
Писать о нынешней ситуации стоит всегда, чтобы оставить потомкам точку зрения на происходящие события от лица очевидца. Подумать только, Иван Бунин скрупулёзно записывал свои мысли в дневник, часть из которых позже опубликовал, а другую — потерял, надёжно спрятав и так и не отыскав, спешно покидая Одессу и навсегда уезжая из России. Его мнение было и останется личным пониманием того времени. Годы прошли, поменялись границы, на карте появились другие страны, а прошлое осталось в прошлом, да на страницах очевидцев, чья боль ощутимее информации из учебников по истории и плодов вымысла беллетристов в реконструкции утраченных страстей.
Царь отрёкся от Империи, большевики взяли власть: понеслась круговерть событий. Поступить правильно не сможешь в любом случае, так как не знаешь — как поступить так, чтобы оказалось правильно. Переступить через себя и согласиться на новые правила игры? Принять смену календарного стиля, основ орфографии — разве можно? Ждать немцев-освободителей или надеяться на успешное продвижение войск белых, с переменным успехом одолевающих красных, тут же теряющих захваченные позиции? А может всерьёз рассчитывать на коренной перелом в сознании людей, готовых не сегодня-завтра взорвать Кремль, родив нечто уродливое и непонятное?
Окаянные и тревожные дни нависли над Россией. Бунин болеет душой, не находя себе места. Его выводы из каждого момента — соединение чувств и эмоций: всплеск взбудораженной пены. В силу своей натуры Бунин язвительно отзывается о действительности, не питая надежд на светлое будущее, но и не вгоняя себя в чёрную хандру. Он пребывает в подвешенном состоянии, готовый покинуть страну в любой момент, для начала переехав из Москвы в Одессу. Он уподобился сарафанному радио, помещая на страницы любые слухи, служащие хоть малой возможностью успокоить его метания. Большевики сдают власть, Россия снова на пороге перемен, Ленин подкуплен немцами? Брожение в обществе отзывается брожением мыслей у Бунина.
В такой уж век родился Бунин. Спокойного времени не существует — человека постоянно сопровождают социальные потрясения: в центре бури всегда штиль. Бунин сожалеет; только было бы ему спокойней, живи он на пятьдесят или сто лет раньше? Будто тогда ситуация могла выглядеть иначе. Не будь он Буниным, был бы Тургеневым и примерял на себя маску эпистолярного борца, а то и Радищевым, страдая за желание показать своё время с максимальной достоверностью. Можно пенять на свой век, называя его окаянным и взывая к утраченным надеждам на спокойное пребывание на данном свете. Отнюдь, трещина от внутреннего разрыва проходит через все слои, поражая органы и больше всего сказываясь на психическом состоянии.
Энергия большевиков не сбавляла обороты, тогда как заряд людей старой формации, убыстряясь, сходил на нет. Бунин навсегда потерял Родину, ничего не сделав для её сохранения. Он отражает происходящее, осознаёт и печалится. За бездействием следует крах. И когда на улицах людей расстреливают на месте, когда лютый голод наваливается, тогда Бунин принимает собственный исход за необходимость. Его всё пуще одолевает тоска и боль — утраченного действительно уже не вернуть.
Позже в творчестве Бунина не раз возникнут аналогичные моменты, где действующие лица будут жить неспешной жизнью, понимая неотвратимость перемен, в итоге смиряясь с неизбежным и продолжая плыть по течению. В этом и есть точка зрения Бунина. Он также всё понимал и осознавал задолго до того, как революция свершилась. А свершившись, революция стала набирать обороты. Обновляться Бунин не пожелал, не имея для этого ни сил, ни желания. Он цинично отразил в дневнике пессимистический настрой: и теперь его мысли доступны потомкам.
Автор: Константин Трунин