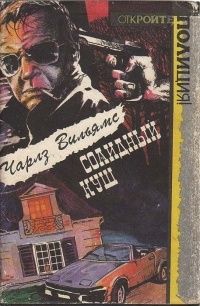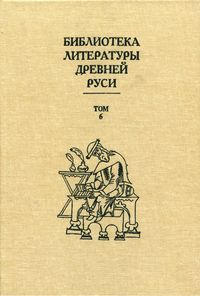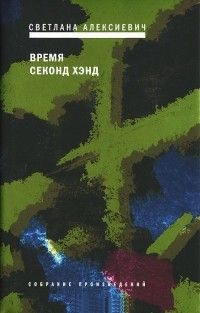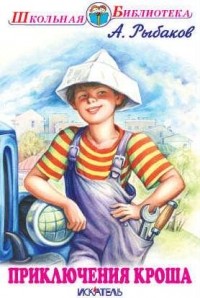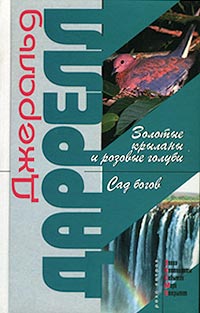Сергей Лукьяненко «Линия грёз» (1995)
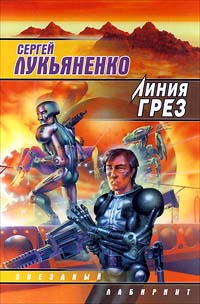
Цикл «Линия грёз» | Книга №1
Реальность может изменяться. Она должна подвергаться трансформации. Человеку будет достаточно пожелать, чтобы пространство вокруг него преобразилось. Пока такое реализуется с помощью вспомогательных приспособлений, вроде воссоздания виртуальной реальности, погружая людей в подобие иного мира, похожего на настоящий. Однажды достаточно будет пожелать, как всё будет подвластно мечтам. Как в таких обстоятельствах существовать человечеству? О том предстоит ломать голову политикам будущего. Сейчас же достаточно понимать, что появится умелец, способный даровать бессмертие. И когда он придёт, он поможет воплотить главное из человеческих желаний — даст шанс на вечную жизнь.
Не будем говорить, как Лукьяненко измыслил подобное предположение. Он уже обращался к идее способности влиять на происходящее, подстраивая его под личные нужды или создавая экспериментальные площадки для других. В «Линии грёз» всё это соединилось в единое представление о действительности. Оказалось, жизнь принадлежит не нам, она плод чьего-то воображения. Таковую мысль никак грамотно не изложишь. Не получилось оговорить детали и у Лукьяненко. Того и не требовалось. Читателю предстоит следить за телохранителем, обязанным доставить на определённую планету сына хозяина технологии по оживлению умерших людей.
Речь не о клонах. Каким образом возрождаются люди — не совсем понятно. Они предварительно считываются, после чего восстанавливаются в данном облике. Предположительно стоит говорить о переносе энергии сквозь космическое пространство к ближайшей точке нового рождения. При этом не страдает память и всё продолжается в прежнем ритме, только в будто бы заново созданной телесной оболочке. Вопросов больше, нежели ответов. Но нет нужды отвечать. Следует считать, что жизнь сохраняется на определённом уровне, а после смерти позволительно вернуться назад. Тело действительно даруется новое, мозг же продолжает помнить о случившемся.
Возрождение не является бесплатным. За него требуется платить. Потому и удивляется главный герой, когда он открыл глаза и осознал своё следующее существование. Очень скоро Лукьяненко рассказывает читателю, для чего это понадобилось. Мало ли избранных приходит в некую Вселенную, дабы пройти путь и стать победителем доступной им реальности. Одним из таковых как раз и стал главный герой. Он пока не знает, как о том не предполагал и сам Лукьяненко. Вообще, чем далее продвигается сюжет, тем более сомнений в понимании авторского замысла, о котором и он сам имел смутное представление.
Сергей исходит не из абы каких побуждений. Ему важно показать понимание присутствия Бога в человеческом сознании. И кто же не Бог, как дарующий жизнь? Он нужен каждому, его требуется подчинить нуждам государства. Ему не может быть нанесён вред, но он самое разыскиваемое лицо империи. На это опирался Лукьяненко, отравляя в путешествие сына такого человека, которого и будет сопровождать главный герой. Конечная цель не представляет существенного интереса, так как она скорее окажется переполненной сумбуром, напрочь ломающим логическое осознание всего имеющего место быть.
Желал ли Лукьяненко продвигать сюжет? Он долго останавливается на сценах, словно не понимая, для чего это понадобится в дальнейшем. Вот главного героя убивает юноша, заставляя претерпевать мучения от осознания скорого наступления неизбежного конца, вот тренировочные файтинги с представителями инопланетных форм жизни, словно предстоит трудиться подобно диверсанту, вот участие в гражданской войне на случайной планете, будто бы имеющей смысл в представленном Сергеем варианте бытия. Основная идея оказалась окружена бутафорией.
Впереди фантазии иного уровня. Окажется, каждый способен воплощать в реальность мечты. Пока это доступно писателям, показывающим нам их умение оживлять, в том числе и кажущееся безнадёжно мёртвым.
Автор: Константин Трунин