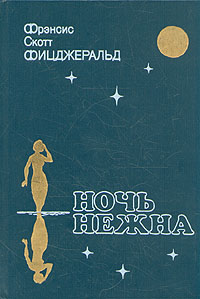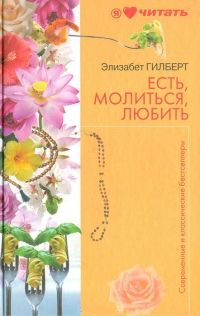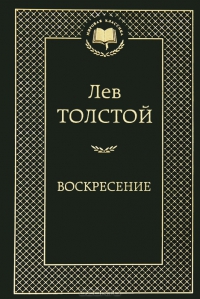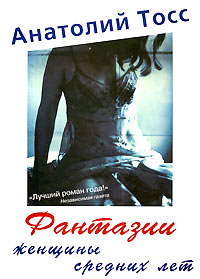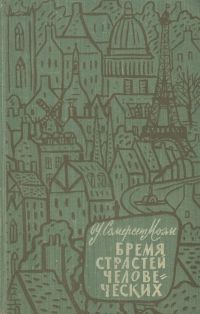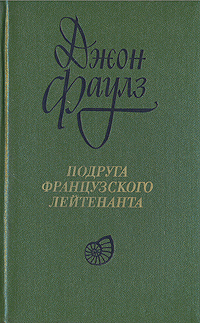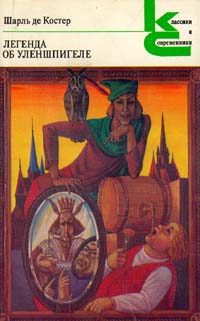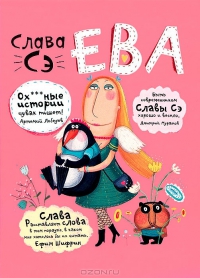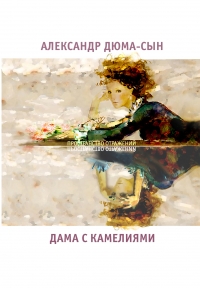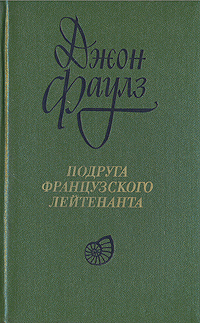
Человеку очень трудно найти себя среди других подобных ему людей. Если не получается взять талантом и умением делать лучше, чем получается у остальных, то выход будет заключаться в оригинальности. Примерно таким образом с конца XIX века в литературе, живописи и других отраслях культурных проявлений достижения наивысшей ступени пирамиды человеческих потребностей зародилось движение модернистов; они не стали новым явлением, а лишь заново закрутили цикл понимания людьми художественных ценностей, сбиваясь на примитивизм и иное видение окружающей действительности. Случилось перенапряжение в обществе, завершившееся пересмотром достигнутого. Людей перестал интересовать ровный логичный строй слов в книжных произведениях, реалистичность в картинах и правильность форм скульптурных творений. Нужно было всё разом вымарать, подменив наивысшее достижение культуры первобытным пониманием действительности. Именно такими являются модернисты, отрицающие красоту формы во имя собственной оригинальной идеи. Однажды Джон Фаулз решил пересмотреть традиции классических английских романов, для чего взял перо в руки, гордо прозвав себя Творцом, он начал писать «Подругу французского лейтенанта».
Согласись, читатель, вступление к рецензии обязательно должно содержать отвлечённое вступление, несколько интригуя и обещая гораздо больше, чем будет дано на самом деле. Горе всех рецензентов в том и заключается, что необходимо свои критические мысли о прочитанной книге облекать в соответствующую форму, постепенно подводя читателя к заключительным абзацам. Разве не так, читатель? Возможны разные варианты, ведь иной рецензент станет выше всего этого, взяв на себя роль модерниста, выдав свою заметку не по правилам, а согласно секундному наитию, принявшую в итоге фантастический вид, который при оригинальном исполнении будет у всех на устах. Написать подобное трудно, но при определённом вдохновении не составляет труда. Очень начитанный рецензент, желающий быть умнее, чем есть на самом деле — берёт в качестве эпиграфа цитату из постороннего произведения, созвучного с его заметкой, порой делая сам эпиграф тем самым средством, от которого он будет постоянно отталкиваться. Более приземлённый рецензент берёт цитату из непосредственно прочитанного произведения, якобы именно в ней заключается весь смысл книги. Хотя, ты никогда не станешь это опровергать, читатель, одна цитата, да даже ворох цитат — вырванные из контекста слова, не требующие анализа, как это любят делать некоторые рецензенты, не имея других средств сказать разумное суждение, подменив сухой выдержкой собственные мысли.
Что же делает Фаулз? Он превращает «Подругу французского лейтенанта» во вступительную статью к им же написанному произведению, где он тщательно разбирает собственные плоды умственных страданий. Трудно встретить другое художественное произведение, когда за окончанием подобной статьи кончается и сама книга. «Где, собственно, полный текст!?» — воскликнет читатель, заранее разобравший с автором сюжетные ходы. Далее текст отсутствует, поскольку Фаулз не стал его писать, ловко выдав нон-фикшн за художественное произведение с многостраничными отступлениями. В своих суждениях он каждый раз отсылает читателя к английским классикам, извращая приёмы их работы, раздувая до невозможности. Можно согласиться с Фаулзом, когда он делится с читателем монологом, якобы точно так же поступали классики, но те мастера не упивались собственной личностью, рассказывая отвлечённые факты читателю не ради цели перенести часть Британской Энциклопедии на страницы книги, а для лучшего понимания происходящих событий. Фаулзу и этого мало: он смотрит на «Подругу французского лейтенанта», как на возможность с позиций человека середины XX века критически отнестись к авторам XIX века, будто те не ведали, что творили, выдавая толстенные произведения.
Основное содержание рецензент наполняет не только личным впечатлением о прочитанном. Необходимо выделить главные мысли, постаравшись сперва самостоятельно в них разобраться, чтобы уже потом обстоятельно изложить мысли, заполнившие голову во время чтения. Можно снова прибегнуть к цитатам, даже совершенно левым. Задав изначально интригу, дальше можно сбавить накал полезной информации, скупо пересказав содержание произведения, подведя тебя, читатель, к тем или иным выводам. Редкий рецензент сохраняет трезвой голову, не опьянённую флюидами радости, злобы или усталости; однако, если повезло с обстоятельным рецензентом, высказывающим мнение стороннего наблюдателя, то и тут надо быть очень острожным, поскольку за отстранённостью всё равно заметно отношение к книге, даже при старании удерживаться на нейтральных позициях. Другое дело, что труд рецензента может оказаться оплаченным заинтересованными лицами; такая ситуация довольно типична, когда хвалебные оды выдаёт наигранность. Беда тут иная, в которой повинен уже ты, читатель, начитавшийся положительных мнений, уже не смеющий высказать противоположное суждение, даже не из-за солидарности с большинством, а действительно изменив настоящее первоначальное мнение под нажимом на подсознательном уровне. С отрицательным посулом происходит идентичная ситуация. Читатель, не забывай — человек был и будет представителем стадных животных.
Писатель может работать с материалом в удобной для него манере. Если Фаулз подходит к коллекционированию камней с ошибочной теории Линнея об окаменелостях, то это его полное право. Не зря же Фаулз без стеснения заверяет читателя, что он может творить с «Подругой французского лейтенанта» абсолютно всё, что ему захочется. Пожелает автор пофантазировать на вольную тему — всегда пожалуйста. Решит поместить себя среди персонажей — ничего с этим не поделаешь. Всякий горазд в своей манере искажать доступную ему реальность. Автор может сделать произведение многовариантным, выдавая зажатый в рамки сюжет за интерактивное действие. Тебе лишь, читатель, решать — поступил автор разумно, или на страницах оказалось чрезмерное количество посторонней информации.
Кстати, читатель. Я уже доводил до твоего сведения, что важнее первой цитаты ничего нет. Может я сказал несколько иначе, но на первую цитату в эпиграфе всегда стоит обращать внимание. Фаулз, например, не стал ссылаться на Шекспира, а сразу взялся за Маркса, вспомнив про эмансипацию. Именно эмансипацией пропитана книга «Подруга французского лейтенанта»: Фаулз на протяжении всего романа будет избавлять читателя от зависимости от устоявшихся мнений и предрассудков. Он показывает литературу новой волны, построенной на исходных классических данных с пересмотром отработанной до идеальности схемы изложения событий. Только знай, читатель, ты можешь верить Фаулзу, а можешь не верить, поскольку все теории литературоведов и им сочувствующих — это гнилое болото чопорных фанатиков, скептически, либо враждебно относящихся к любым проявлениям отклонений от занятыми ими позиций кем-то давно написанных теорий. Фаулз не опровергает, он скорее поддакивает, находя свой сюжет среди доступных ему вариантов. Его суждения — всего лишь его частное мнение, как и его видение классической литературы.
Заключение рецензии должно быть ёмким. Именно ёмким. Не нужно много слов, когда выше их было сказано вполне достаточно. Желательно закончить рецензию афоризмом, извлечённым рецензентом в тяжкой борьбе с самим собой. Мудрость — понятие временное и эфемерное, не обязанное быть привязанным к действительности. Поэтому, читатель, никогда не серчай на рецензента, если он ляпнул глупость в самом конце, смазав общее заработанное впечатление. Не кори рецензента, читатель, если тот в своих суждениях не до конца разобрал произведение, ведь он не ставил себе целью написать пятисотстраничную монографию по теме, которую ты, читатель, тем более бы не стал читать. Помни, читатель, плод мыслей писателя практически вечен, а, засидевшийся на бобах, рецензент, вследствие плохого питания, желает прикоснуться к чему-то великому, заранее зная ветхость написанных им слов.
Кто запомнит рецензента? Никто. Но знаешь, читатель, были в истории литературы исключения!
Автор: Константин Трунин
» Читать далее