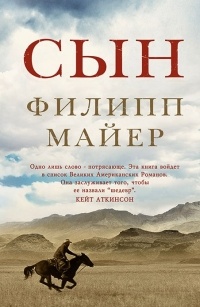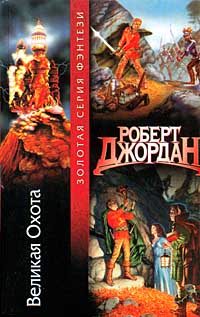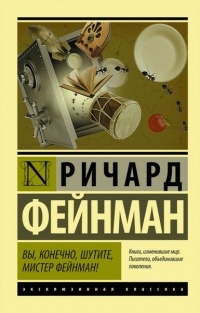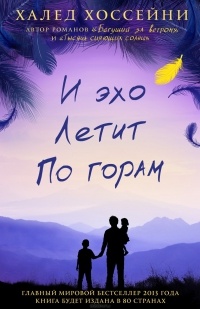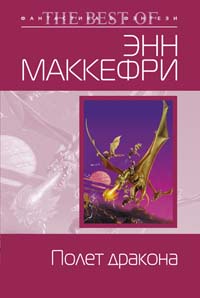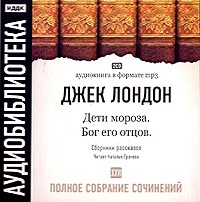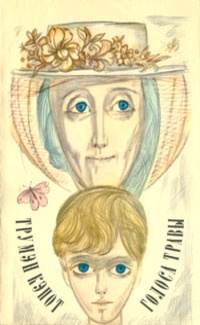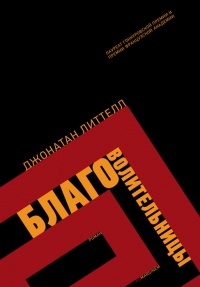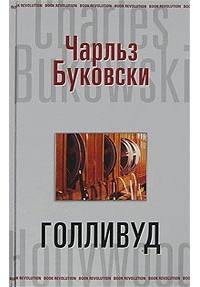Чарльз Буковски «Макулатура» (1994)
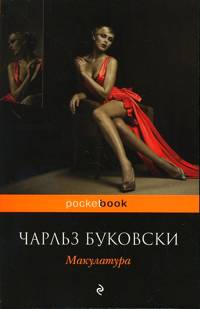
Ерунда сама по себе является ерундой, как не пытайся её охарактеризовать. Если в ерунде искать смысл — рождается философия. Если её стараться применить к повседневности — религия. Ерунда самодостаточна — нужно принять во внимание и не придавать значения. Всё равно замыслы её сказавшего человека будут истолкованы превратно. В данный момент под ерундой стоит понимать художественную литературу, а именно те тонны макулатуры, коей она и является на самом деле. Редкий писатель вкладывает смысл в создаваемые им произведения, чаще в безумстве исторгая из себя слова ради слов, будто кто-то их действительно будет читать в том количестве, на которое они рассчитывают. Удовлетворяется сиюминутная прихоть без предположения о нужности и полезности.
Возможно из данного понимания исходил и Чарльз Буковски, когда создавал последнее своё крупное произведение. Не надо быть особенно талантливым, чтобы в отрицательных оттенках передать гибельное положение писательского мастерства. Во времена Буковски действовали определённые закономерности успешного написания книг, воспринимаемые последующими поколениями скорее негативно. Это в прошлом, поэтому чтение «Макулатуры» становится для читателя квинтэссенцией для понимания литературы последних десятилетий XX века.
Буковски берёт за основу избитые сюжеты, предлагая читателю присоединиться к будням бедного-талантливого детектива, способного решить труднейшие из поручений, будь заказчиком хоть Смерть, хоть инопланетяне. Его пропитое-прокуренное мировоззрение строится согласно представлениям самого Буковски о приятном времяпровождении, то есть главный герой не будет брезговать алкоголем и ставками на скачках, что одновременно обязательно становится для него сущим наказанием, отчего выбраться из ямы будет проблематично.
Буковски строит повествование в мрачных тонах, изредка переходя на чёрный юмор. В самом деле, что такое может произойти в жизни падшего элемента общества, если он не представляет никакой ценности? Его смешают с грязью и выставят на всеобщее обозрение, дабы другим служить ярким примером никчёмного существования. Буковски жесток и не собирается делать исключений: происходящее полно абсурда и обречено на мучительную гибель. Перезанять разумность на стороне не получится — никто не поверит и не согласится предоставить второй шанс.
Говорить о том, во что выродилась литература после Буковски нет необходимости. Она перешла на другой этап существования. У неё появились иные ценности и она варится уже согласно им. Это не хуже и не лучше — изменились нравы, а с ними и способы подачи материала. Заложенное ранее продолжает использоваться, будучи разбавленным упором на новые потребности человеческого бытия. Читатель просит откровенности, получая её в полном объёме. Описываемое Буковски стало далёким и слегка наивным, словно песок пересыпали в песочницу побольше, где вместо лопатки, ведра и рядом располагающейся скамейки для распития спиртных напитков, можно найти остатки людских испражнений, засохшие интимные выделения и можно наблюдать за развратными действиями взрослых, вернувшихся по образу мысли в пещерные времена.
«Макулатура» отчасти делится прогнозом на будущее. Буковски отражает и те тенденции, что будут проникать в художественную литературу на протяжении последующих десятилетий. Уже нет наивной веры в существование Смерти, инопланетян и прочего, а есть твёрдое убеждение, что мифические определения обязаны облечься в человеческое тело и в своих стремлениях быть похожими на жителей Земли. Впрочем, это касается абсолютно всего, в том числе и событий прошлого. Всё подводится под одно, без права на самостоятельность.
При любом критическом отношении к художественной литературе, никогда к ней не изменится отношение основной читательской массы. Потребности этой массы формируют то, к чему будут стремиться писатели, иначе обязательно канут в забвение, какими бы гениями беллетристики они не являлись.
Автор: Константин Трунин