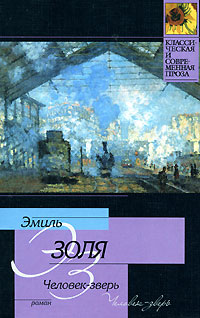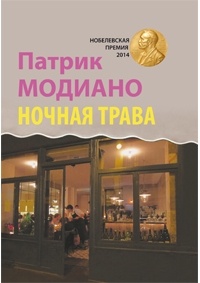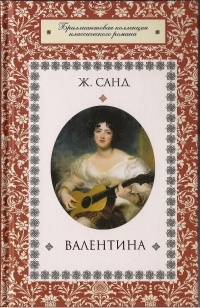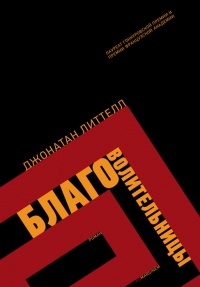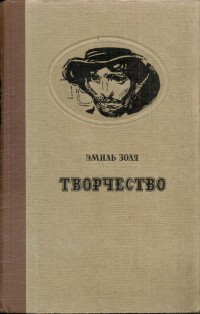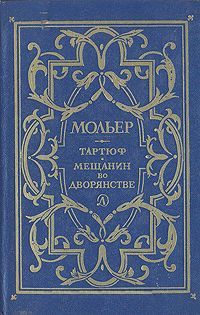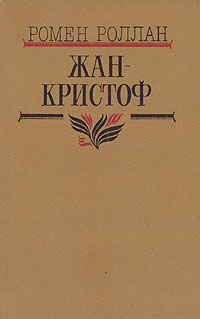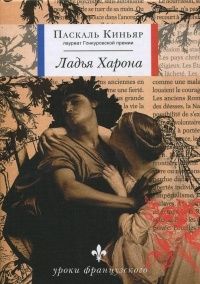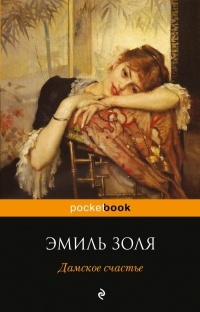Кристоф Оно-ди-Био «Бездна» (2013)
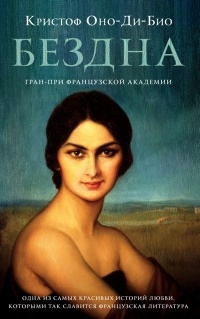
Набоковская Маша приехала. И кому, как не сыну, будет о ней рассказывать отец? Замечательная была мать, жаль умерла. Появился повод заново пережить прекрасные мгновения прошлого, поведав о них родному ребёнку. И неважно, ежели ушей сына коснутся эротические подробности взаимоотношений двух взрослых людей. Ему необходимо знать всё, вдруг и отец сгинет в бездне, после чрезмерного увлечения беременными акулами и дайвингом. Вторым слушателем истории из уст Оно-ди-Био становится читатель, что знает историю наперёд, не осознавая, насколько некоторые французские писатели способны разжёвывать всем понятные истины, подавая их на красиво украшенной тарелке.
В начале XXI века стало трудно жить обыкновенному человеку. В аэропорту его тщательно досматривают и сетуют на неосуществимость желания уличить на досмотре хоть какого-либо террориста. Европейцы продолжают думать, будто к ним стремится переехать население всей планеты и приобщиться к их ценностям. Хлебнув впечатлений в зарубежных поездках, туристы уже не смотрят с былым оптимизмом на экзотические страны, где помимо бедности и антисанитарии случаются природные катаклизмы или действуют человеческие факторы, подрывающие основы понимания должного быть. Инфантилизм в искусстве продолжает набирать обороты, опираясь на необходимость отображать внутреннее недоразвитое осмысление реальности. И вот обыкновенный человек XXI века начинает осознавать: он сможет найти покой только там, откуда вышел изначально, то есть в пучине вод.
Оно-ди-Био не раскрывает существенных истин. Его цель заключается в отображении действительности. Он скрупулёзно подсчитывает количество жертв в происшествиях, позволяет действующим лицам подвергаться опасности, даёт представление удручающего положения дел. Человечество погружается во мрак, не понимая отчего. Просто Оно-ди-Био смотрит на жизнь взглядом боящегося всего, не понимающего, насколько опасна внешняя среда, якобы покорённая человеком. Он ищет корни проблем в банальности, обвиняя людей в различии их мировоззрений.
Если двое конфликтуют — это обязательно приведёт к трагичному исходу. Пусть вина на главном герое и не лежит. Он отговаривал свою вторую половину от безумств, мотивируя примерами собственных ошибок. Ему приходилось видеть страдания людей, он сам был в плену у тех, кто мог отрезать его голову, в случае отказа заплатить выкуп. Он, пережив травмирующую психику ситуацию, отказался от всего, что может быть связано с опасностью. Размышления главного героя здравы, но чрезмерно расплывчаты. Таким же образом думают европейцы, насмотревшись телевизора и начитавшись газет. Чьё-то эксцентричное поведение они воспринимают за обыденное явление, поскольку о нём говорят на каждом углу и у него появляются подражатели. Европейцы сами усугубляют положение, давая право существовать ерунде, хотя можно всего лишь закрыть глаза и не обращать на сумасбродов внимания.
Излишний ажиотаж — путь в бездну. Главный герой произведения Оно-ди-Био доверяет средствам массовой информации, получая на выходе то, что и должен был получить. А именно — негатив. Он, аналогично другим, боится стать жертвой теракта, опасается притока эмигрантов, поощряет мазню и, надо полагать, сексуальную распущенность, зависает в интернете, а также увлекается практиками ухода в себя, совершая это с помощью дайвинга.
Открытое информационное пространство угнетает людей, желающих видеть событийность во всей полноте. Но стоит погрузиться в бездну и мир перестанет восприниматься с позиций постоянно ухудшающихся условий. Оно-ди-Био не намекает — он отображает настоящий момент. Нужно правильно интерпретировать его слова, тогда и выводы возникнут соответствующие. Пусть один из героев повествования должен умереть, другой — обрести гармонию, а третий — бороться за право бороться. Другой жизни всё равно не будет.
Автор: Константин Трунин