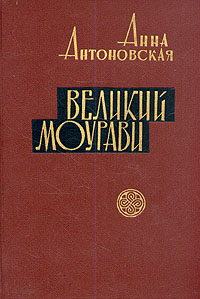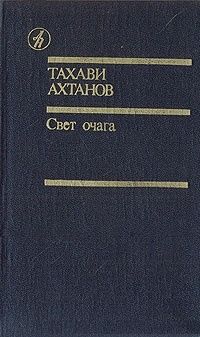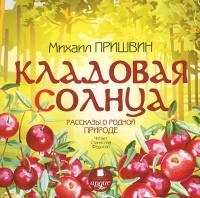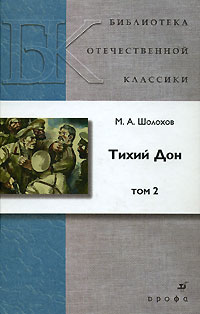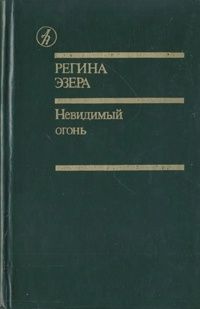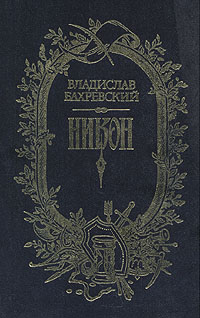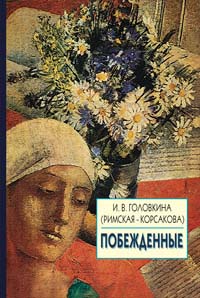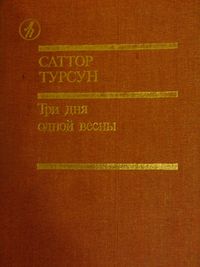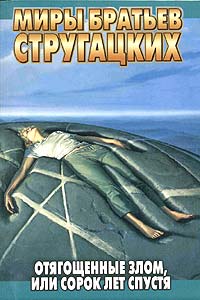Александр Степанов «Порт-Артур» (1940-42)
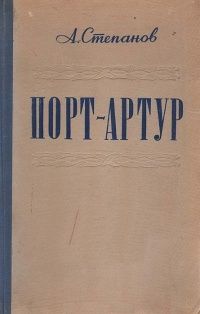
Русско-японская война была глубоко трагичной, последствия которой привели к событиям 1905 года. Почему русские тогда проиграли и была ли у них хоть малая возможность победить? Александр Степанов смотрит в прошлое довольно категорично. Он трактует те дни так, будто люди на самом деле могли знать о замыслах противника и принимать ответные адекватные действия. Легко Степанову строить версии, опираясь на воспоминания свидетелей и постоянно поливать грязью порядки царской России. Из светлого в сюжете «Порт-Артура» можно вывести любовную историю молодых людей, ставших заложниками обороняющегося города. В остальном же, если не стремление автора опорочить память прежнего режима, то попытка обосновать крах желанием военных сохранить лицо, думая о высоких идеалах.
Мало какой человек нейтрально отзывается о поражениях России, да и всего провального, что связано со страной. Это можно назвать характерной чертой русских, готовых съесть кого угодно, только бы не сознаться в собственной неспособности грамотно реагировать. В очередной раз, говоря о прошлом, русские были не готовы к войне. Кажется, русские никогда не готовы к чему-либо. Они думают, будто вокруг всё благополучно, с ними готовы дружить и их соседство в важном для противника регионе устраивает абсолютно всех, включая самого противника. Степанов заявляет категорично — японцев в Порт-Артуре никто не ждал. Это не начало войны, поскольку японцы не соблюли должных формальностей, а всего лишь салют в честь случившихся именин.
За подобным вступлением читатель не сразу замечает отрицательное отношение Степанова к царскому режиму. Писатель постепенно добавляет в повествование дополнительные свидетельства, трактуемые односторонне. Проиграть войну Россия была обязана, поскольку тому имелось множество сопутствующих факторов. И дело не в том, что лицо нужно действительно сохранять, а в том, что люди стремились придерживаться заведённых порядков, не позволяя себе вольностей.
Степанов наоборот хвалебными речами поощряет бунтарей, видя в их стремлении поступать наперекор требованиям залог надежды на победу. Будто не помолись рядовой лишний раз или не допусти он изменения в военной форме, так могло стать гораздо лучше. Степанов открыто выражает собственную неприязнь. И больше всего его удручают насквозь прогнившие армейские традиции. Разве может капитан пойти на дно с кораблём или бросить моряков наедине с силами противника? Разумеется нет. На это и негодует Степанов. Ему не нравится, что человек способен оставаться человеком, подчинённым принятому в обществе негласному кодексу поведения.
Самое странное, Степанов осознаёт значение совести. Его герои на самом деле не могли заботиться о ком-то другом. Для них данное поведение должно стать противоестественным. Но читатель видит проявление мужества и героизма, смирившихся с необходимостью воевать людей. Красочное описание батальных сцен служит тому лишним подтверждением. Расписывая жар сражений, Степанов после вволю обругает командование, допустившее промахи, ведь силы противника располагались там-то и там-то, а иногда уже готовы были пойти на харакири от бессилия. Что знает Степанов, того не знали участники обороны Порт-Артура — этого нельзя забывать при чтении книги.
Ошибки могли быть допущены — такое возможно. О русском командовании времён Николая II лестные отклики найти крайне трудно. Оставленное Александром III в качестве наследства мирное государство не было готово к агрессии со стороны. Слишком армейские дела стали переполненными чем угодно, кроме умения воевать. Русскому солдату оказывалось проще маршировать на параде, нежели идти в бой. От этого и исходил Степанов, откровенно позоря ответственных за оборону Порт-Артура. Не пел бы он при этом дифирамбы разложившейся дисциплине…
Автор: Константин Трунин