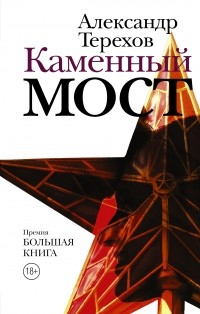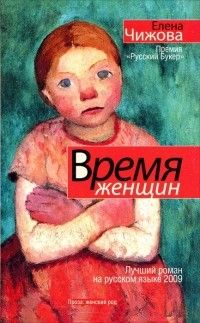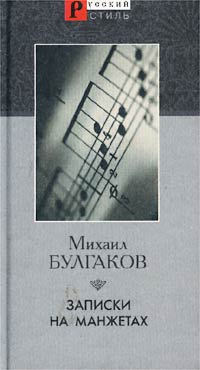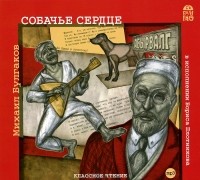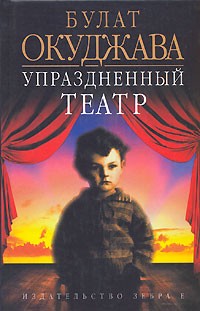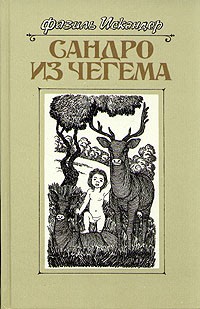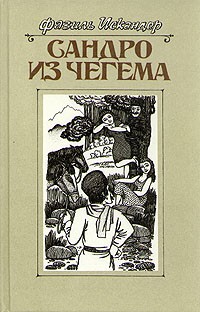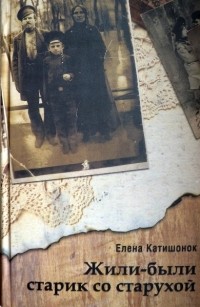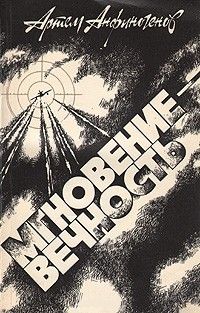Михаил Булгаков — Сочинения 1919-22
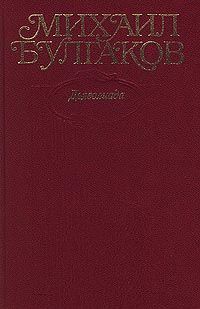
Трагедия Булгакова объясняется за счёт неверно выбранной стороны в переломный момент. Не желая принимать власть большевиков, Михаил с 1919 года обличал методы красных, о чём откровенно писал публицистические заметки. Так одним из первых его литературных трудов стала статья «Грядущие перспективы», опубликованная в ноябрьском выпуске газеты «Грозный». Булгаков призывал снова поднять страну на ноги, осуждал осевших в Москве политических деятелей и вмешивался в и без того сложное понимание подковёрной борьбы тогдашних лидеров.
В том же 1919 году, но ещё летом, Михаил позволил себе открыть глаза современникам на зверства большевиков, опубликовав в «Киевском эхо» статью под названием «Советская инквизиция». Булгакову казалось странным, что убивая безвинных людей, порою для круглой цифры в отчёте, сия информация оставалась без внимания общественности. И людей не просто расстреливали, над ними в прямом смысле издевались, например стреляя в голову в упор разрывными патронами, дабы обезобразить лица убитых. Сложность времени Михаил не принимал за оправдание. Он желал видеть гуманность там, где требовалась борьба без принципов, лишь бы обеспечить победу.
Приверженность сим мыслям Булгаков сохранит и в следующие годы, а может не изменит им до конца жизни. В январе 1920 года в «Кавказской газете» он публикует статью «В кафе», снова обличая советскую действительность. А в апреле 1921 года, опять во владикавказской газете, только теперь в «Коммунисте» Михаил опубликовал первое художественное произведение, дав ему название «Неделя просвещения».
Что желали солдаты Красной армии? Разумеется, они хотели посещать увеселительные учреждения, вроде цирка. Начальство смотрело иначе — людей требовалось просвещать. Лучше театра для того ничего не существует. На представления допускались безграмотные, тогда как грамотным дозволяли посещать цирк. Несправедливость? Отнюдь! Наперекор желаниям шло начальство, проявляя заботу о нравах населения. Ведь допусти солдат в цирк, то цирк выльется на улицы. А отправь солдат в театр, тогда улицы наполнятся возвышенными чувствами. Посему начальство и решило — настало время просвещать население, хотя бы на одну неделю.
Булгаков в прежней мере выразил протест советской власти, но уже не такой категорический. Наконец-то он понял, как надо воздействовать на читателя, не прибегая к прямому обличению. Нужно самому ощутить принадлежность к угнетаемым, дабы изнутри показывать тяжёлое положение нового режима. И нет ничего лучше, чем представить обыкновенного человека со свойственными ему желаниями. «Неделя просвещения» стала уроком и для Михаила. Как безграмотному проще сделаться грамотным, получая таким образом доступ в цирк, так и Булгакову проще смириться с происходящим, становясь благодаря этому достойным нового общества членом.
В 1922 году Булгаков в Москве. С какими трудностями он тогда столкнулся, он рассказал в «Записках на манжетах». Пропев осуждение бюрократизму, действующему вне зависимости от любой власти, Михаил принялся наблюдать за происходящим в столице. Не сказать, чтобы он радовался происходящим переменам, с которыми ему всё равно приходилось мириться. Допустим, Булгаков видел проекты, остававшиеся на бумаге, зато получавшие широкий резонанс, вроде «Рабочего города-сада», о чём он рассказал в газете «Рабочий», поместив заметку как бы по теме периодического издания.
Тот же 1922 год — это начало сотрудничества с эмигрантской газетой «Накануне», публиковавшейся в Берлине. Именно в ней Булгаков дебютировал с циклом заметок «Записки на манжетах», опубликованные в России спустя год. Размещать заметки в «Накануне» было проще, поскольку не требовалось подходить под формат, а публиковать именно то, что интересовало в первую очередь его самого, то есть наблюдения за происходящим.
«Москва краснокаменная» и «Похождения Чичикова» — советские реалии без красивого обрамления. Умер патриарх Никон, слова сокращаются и приближаются к виду аббревиатур, в Москве повсюду трупы отощавших до состояния скелетов людей. Всё это тогда, когда активно жируют нэпманы, извлекающие прибыль едва ли не из воздуха. Кому-то всё это кажется знакомым, да не всякая история повторяется, порою не допуская уничтожения деятельности нэпманов, мешающих добиться равного для всех в стране благосостояния. Вроде миллиарды в наличии, но деньги растворяются в безвестности.
Булгаков не забывал о медицинской тематике, вспомнив о собственной службе на Кавказе. В журнале «Рупор» был опубликован цикл заметок от первого лица «Необыкновенные приключения доктора», рассказанные будто на основании доставшихся автору статьи записок. Проницательный читатель понимает, тем самым Михаил не хотел указывать на собственную личность, снимая любые возможные к нему упрёки впоследствии. Впрочем, основным содержанием приключений стало постоянное напоминание, что написавший их доктор не Лермонтов, его не пленяют горные вершины и реки, а сам он если и имеет некое чувство, то имя такому чувству — скука.
Любопытным наблюдением Булгакова стал рассказ «Спиритический сеанс». Группа людей вызвала ответить на их вопросы не кого-нибудь, а императора Наполеона, приставая к некогда великому человеку с проблемами бытового характера. Станет ли отвечать им Наполеон? Михаил в этом усомнился, дав единственно допустимый адекватный ответ.
В издании «Москва» и в «Красном журнале для всех» Михаил дал представление советским гражданам о том, что они итак понимали самостоятельно, и к удивлению читателя — понимал сам Булгаков. Статья «Торговый ренессанс» окрасила Москву яркими цветами: жизнь налаживается, буквы на вывесках согласно реформе, новая экономическая политика даёт ожидаемые от неё результаты. А вот в очерке «N13. Дом Эльпит-Рабкоммуна» такого же позитивного мышления не было — всё связанное с инициативой непосредственно населения потерпело жестокий крах, приведя к смерти людей.
Остальные произведения Булгаков опубликовал в газете «Накануне»: «Красная корона», «В ночь на 3-е число», «Столица в блокноте» и «Чаша жизни». Читатель видит, как стремился Михаил работать в жанре художественной литературы, и как плохо ему удавались первые рассказы, если они не касаются злободневных тем. Внимать приходится повествованию от лица психически больного человека и от лица человека, ожидающего вторжения в Киев Петлюры.
Не переставала Булгакова беспокоить проблема нэпманов, легко зарабатывавших и легко тративших, попадая от того на судебную скамью за нецелесообразный расход денежных ресурсов. Таким сюжетом Михаил поделился с читателем 31 декабря 1922 года.
Свой интерес заслуживает цикл очерков «Столица в блокноте», получивший продолжение в следующем 1923 году. Булгаков не скрывал пренебрежения, кратко рассказав о гнилой интеллигенции, как доктор не чурается работы грузчика, более для него доходной. Поведал и о неприятии пристрастия русских к семечкам, противных всюду оставляемой шелухой. Подивился благообразному мальчику, отличному от сверстников тем, что он не кричит и ничего не продаёт. Ужаснулся штрафам за курение в двадцать миллионов рублей. И добавил о неприятии творчества футуристов, пожелав им родиться в XXI веке, когда публика созреет для понимания ими делаемого.
Автор: Константин Трунин