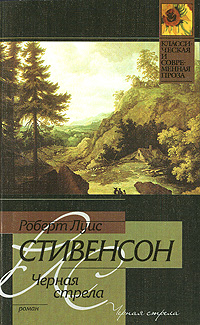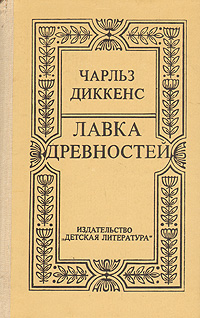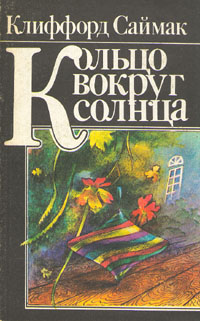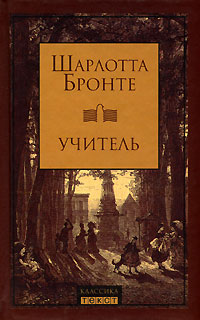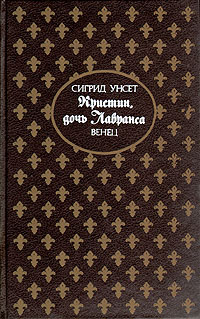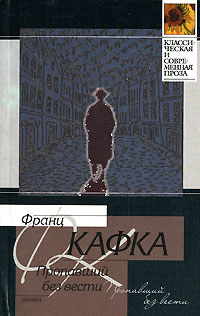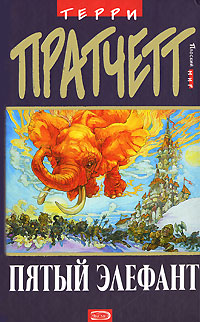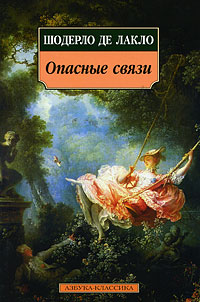Энн Райс «Интервью с вампиром» (1976)
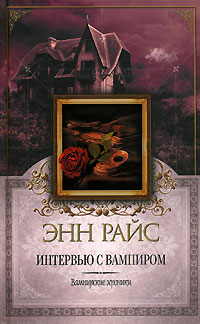
Поскольку тема вампиров в культуре — вещь необъятная, то сразу предлагаю сконцентрироваться только на этой книге, отставив в сторону мифических упырей. «Дракулу» Стокера, «Блэйда» из Голливуда и даже невероятно правдоподобный сеттинг «Vampire: The Masquerade» из серии настольных игр «World of Darkness» от White Wolf Game Studio, где душа любителя фэнтези наконец-то обрела покой, найдя всю нужную информацию от истоков вампиризма до тщательного разбора различных особей тёмного мира. Сейчас перед нами книга Энн Райс «Интервью с вампиром», год издания которой 1976, а это, как знает читатель, время позднего расцвета фэнтези в литературе, скатившегося со светлой эльфийско-драконовой тематики в более мрачные тона вампиров-оборотней.
Самая большая претензия к Райс — в книге нет объяснения сущности вампиров. Самому древнему вампиру не более четырёхсот лет. Где более древние, откуда пошли, на чём основывается их проклятие? Каждый автор может толковать свою версию, этим Райс и пользуется, создавая существ, отличимых от человека только жаждой к питью крови, боязнью солнечного света, способностью быстро двигаться и одурманивать людей лживыми речами; о вечной жизни говорить не приходится, только непонятно — почему Райс считает вампиров вечными созданиями, ведь никто нигде никак не доказывает это утверждение. Способность сохранять молодость также остаётся непонятной — будто гравитация на них совсем не действует. Вампир не нейтрино, чтобы быть чем-то, что плохо изучено и способно проникать через материю. Райс не раз говорит читателю, что вампир — это всего лишь ходячий труп. Почему он не разлагается, и как на него может негативно влиять кровь мёртвых созданий? Как вообще устроен вампир… Он подобен хладнокровной рептилии, или каким иным способом его ткани обладают той способностью к регенерации, не получая должного питания? Вампир не пратчеттовский тролль, в конце-то концов, и даже не создание Франкенштейна, но, если далеко не отходить от этих рассуждений, то вампир у Райс — просто существо, которое живёт по той причине, что таким получилось, оно не боится распятия, святой воды и чеснока — такой райсовский вампир, история которого просто красиво была упакована в виде одного интервью. Ответов в книге всё равно не найти, поэтому говорить о сущности вампиров далее — нет смысла.
Подать историю главного героя в виде интервью, где он сам всё про себя рассказывает, да гордо вынести это в название книги — задумка интересная. Только читатель не будет до конца наивным, ведь любая версия одного лица — это односторонний взгляд на историю, где всё может оказаться вымыслом, тем более, что журналист не будет требовать никаких доказательств, веря всему на честное слово, не подозревая о возможности ловкой игры светом и некими иллюзорными видениями. Получается — история вампира, рассказанная Райс — никак не может быть воспринята историей вампира, она строго читается как фантазия некоего человека, решившего огорошить мир признаниями о своей тайной сущности, форменной бесчеловечности и проблесками гуманности, сохранившейся с молодых лет, покуда ему не пришлось стать вампиром. Эту историю можно повернуть на восемьдесят градусов, ведь, опять же, нет гарантий, что главный герой рассказывает о Луи как о себе, поскольку он может оказаться тем злым и самодовольным вампиром, о чьей судьбе он постоянно и с жаром рассказывает. Не стоит исключать возможность шизофрении, где герой не до конца разобрался в своей истинной сущности, пребывая в двух состояниях одновременно. Историю Райс рассказывает не только в духе «Дракулы», где вампир находится в поиске и остальные участники событий находятся там же, но в этой истории читатель может найти кое-какие элементы, что позже Чак Паланик позаимствует для своего «Бойцовского клуба», где повествование вызывает ещё больше неприятных ощущений, но общие детали всё равно имеются, хоть, казалось бы, что тут может быть общего. Однако, может.
Вся прелесть «Интервью с вампиром» заканчивается введением в сюжет истории девочки, к которой так будет привязан главный герой. Райс полностью сконцентрируется на её чувствах и переживаниях, внедряя в вампирологию новые вопросы этики и морали тёмного мира, где не каждый вампир может полностью раскрыть свой потенциал, но обязательно будет хранить старые обиды. Если до знакомства с девочкой, главный герой пребывал в аморфно-самоистязательном состоянии, то теперь он оживает и начинает познавать мир заново. Не будь этой девочки, тогда книга не была бы такой затянутой, а интервью закончилось к утру, а не к тому моменту, когда читатель, что решил читать с секундомером, отмечает длинную зимнюю северную ночь, поскольку летом таких продолжительных ночей не бывает. Странные вампиры у Райс — им бы в Англии жить или в Скандинавии, однако что-то их тянет на юга, например в Новый Орлеан. Конечно, такой подход автора понятен — она сама из Нового Орлеана.
Чем дальше идёт сюжет, тем больше возникает вопросов. Когда Райс подалась в религию, где вампир будет пытаться узнать чьим созданием он является, а получая ответ в духе — все мы божьи создания, даже дьявол; тогда читатель окончательно становится в тупик от логики автора, ничем не подкреплённой. Может оно и правильно, надо где-то искать начало жизни, ведь позже креативные парни из White Wolf тоже сделают привязку к Каину, как к первому вампиру.
Энн Райс создала самобытную версию о вампирах. Почему бы и нет — фантазировать можно бесконечно, главное это делать правдоподобно. Райс можно поверить, но всё-таки хочется более весомой информации, а не историю вампира в мистическом антураже.
Автор: Константин Трунин