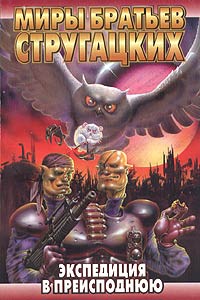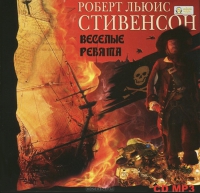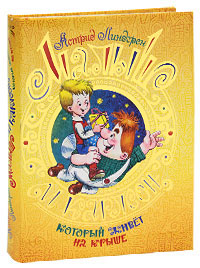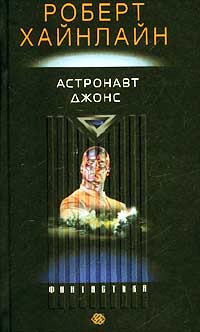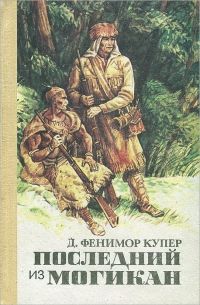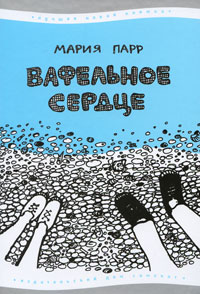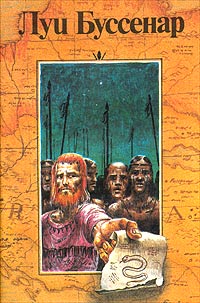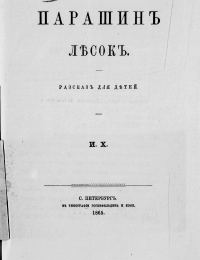Николай Чуковский «Водители фрегатов» (1941)
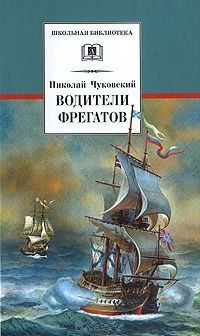
Ни для кого не является секретом, что с помощью беллетристики можно лучше понять историю. Это не исключает неверного трактования писателями событий, предлагающих собственную точку зрения. Но также известно, что объективность — понятие относительное, и каждый видит в некогда произошедших событиях свою личную правду. Поэтому не стоит отказываться от чтения какой-нибудь книги только из-за чувства обрести дополнительный багаж заблуждений. В исторических монографиях шелухи даже больше, чем в иной беллетристике. Знания сами по себе являются продукцией сомнительного качества от недобросовестного производителя. А если под обёрткой обнаруживается не всестороннее рассмотрение, а мифологизирование, то такое лучше отдать детям — они станут умнее, но, повзрослев, напрочь забудут материал; зато смогут находить истину там, где большинство доверяется мнению автора.
Стиль изложения Николая Чуковского идеально подходит для детского чтения: он лёгок и хорошо усваивается. Истории подаются в духе приключений и жажды открытий новых горизонтов. Мир становится гораздо понятнее, а его познания — шире. В 1941 году был издан сборник повестей Чуковского «Водители фрегатов», куда вошли ранее написанные «Капитан Джеймс Кук» (1927), «Навстречу гибели: Повесть о плавании и смерти капитана Лаперуза» (1929), «Путешествие капитана Крузенштерна», «Один среди людоедов» (1930). Также в сборник вошла история про поисковую экспедицию Дюмон-Дюрвиля.
Старт географическим открытиям даёт беллетризированное описание трёх путешествий Джеймса Кука, начиная с его малых лет. Чуковский не просто рассказывает про будущего мореплавателя, но и заряжает читателя любовью к морю. Именно с позиции понимания взглядов Кука Чуковский будет строить остальные произведения. Для него важнее видеть в поступках человека справедливое отношение к людям, исключая любые попытки наживаться за чужой счёт. Не раз Чуковский будет говорить о капитанах-варварах, относившихся к туземцам без церемоний, что вызывало у островитян ощущение праведного гнева. Писателю просто излагать факты, оказывая воспитательное воздействие на молодого читателя, но он забывает, что добрый нрав Кука в итоге наткнулся на всё те же проявления человеческой жестокости и неблагодарности, в результате которых исследователь Тихого океана был убит на Гавайи из-за конфликта между вождями и жрецами. Куда бы ты не плыл и как бы ты не относился, будь ты британцем или будь ты гавайцем — человек везде одинаков.
Практически все приведённые истории касаются Новой Зеландии и острова Пасхи, где экспедиции заново знакомятся с традициями коренных обитателей этих областей. И если жители Пасхи довольно миролюбивы, то этого не скажешь о новозеландцах, агрессивно настроенных против всех, кто высаживался на их берега. Именно Новой Зеландии посвящена история про матроса Рутерфорда, неграмотного могучего британского моряка, вследствие кораблекрушения вынужденного выживать среди местных племён, чьи нравы и внутренние раздоры не дадут ему спокойно вздохнуть. Эта повесть наполнена информацией, а события неминуемо заставляют верить в счастливое спасение незадачливого британца. Сейчас подобные истории фантасты переносят на почву далёких планет, а Чуковский ещё мог себе позволить рассказать в духе старых времён, поскольку экспедиции действительно терпели кораблекрушения, и члены экипажей кораблей при спасении были обречены на долгие годы пребывать в не самых приятных условиях.
Матрос Рутерфорд мог возникнуть по следам изучения исследований Лаперуза, чей задачей стал поиск Северо-Западного прохода. Франции нужен был выход в Тихий океан, и желательно, чтобы он был ближе к их владениям в Северной Америке. Сама Франция отличалась нестабильностью в политическом плане, поэтому миссия Лаперуза имела много подводных камней, следствием которых мог стать бунт команды. К сожалению, Лаперуз погиб, заранее зная, что его корабли не смогут выполнить всех поручений, которыми его снабдило родное учёное общество. Чуковский видит в Лаперузе достойного продолжателя Джеймса Кука. Только вот Кук плавал раньше и многое открыл, а на долю Лаперуза досталось бороздить океанские просторы, опровергая открытия соотечественников.
Если верить Чуковскому, то туземцы не испытывали страха перед неизвестными им путешественниками. Они скорее любопытные и даже вороватые. Похоже, полинезийцы все были такими, поскольку иных Чуковский не показывает. Редко где встречались каннибалы. Тем не менее, беды на мореходов сыпались именно с тех островов, на которых обитали знающие себе цену туземцы. Именно гавайцы и новозеландцы стоят особняком во всех историях, вызывая переживание за тех людей, которым пришлось плавать в неблагоприятных морях.
«Путешествие капитана Крузенштерна» сообщает читателю много интересных фактов, как о самом Крузенштерне, много где побывавшем, включая Индию, прежде чем ему удалось получить согласие российского императора на снаряжение двух кораблей для кругосветного плавания. Удивительно, в этой экспедиции также участвовал Беллисгаузен, позже открывший Антарктиду. Именно читая про Крузенштерна понимаешь, что Чуковский преследовал цель не воспеть трудности морских путешествий, а показать именно крепость характера отважных людей. Никто из преодолевавших мыс Горн не удостоил ему должного внимания, лишь с облегчением вздыхая, оставляя его позади. Хотя прекрасно известны трудности, связанные с этим местом. Отвага у Чуковского не строится из мелких деталей, ему важнее показать картину в целом.
Не раз зайдут герои сборника на острова Китая и Японии, сталкиваясь с хитростью жителей первых и бюрократизмом — вторых. Надуть европейцев китайцы считали правым делом, их государство тысячелетиями скрипело под тяжестью мздоимства, а вот попав к японцам — можно на несколько месяцев забыть про возможность выйти из их портов, чаще всего не дождавшись разрешения и самовольно покидая оные.
Океан по-прежнему хранит много загадок. И малая их часть найдена. Пора погружаться в глубины вод собственной планеты, а потом и вгрызаться в земную твердь. Впереди много открытий. Будут другие Николаи Чуковские, что в такой же увлекательной форме расскажут про исследователей. Но это в будущем.
Автор: Константин Трунин