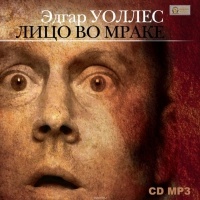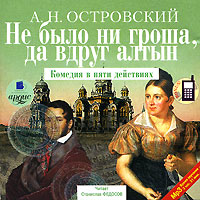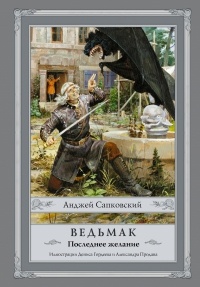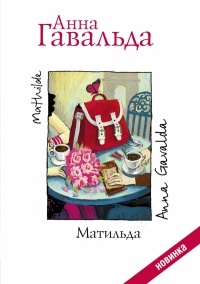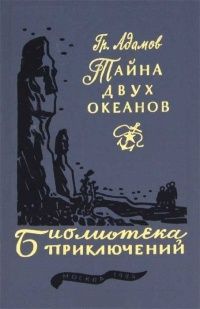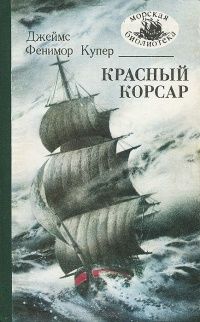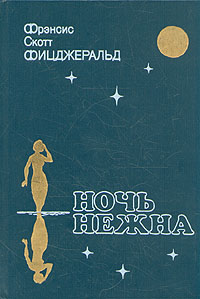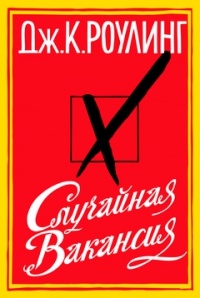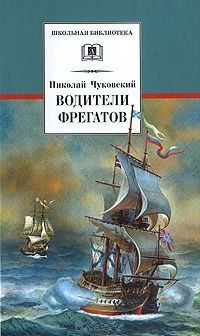Мо Янь «Устал рождаться и умирать» (2006)
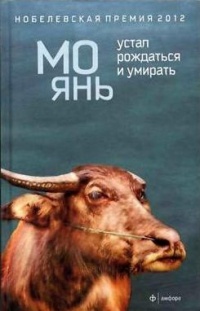
Мо Янь однажды родился и ещё ни разу не умирал, вместо него это делали другие. Зато Мо Янь сумел их глазами показать самого себя. Пожалуй, подобный вариант автобиографии ранее никто не писал. Мо Янь слишком импульсивен, категоричен и обладает излишне поганым языком. Он создаёт иллюзию деревенского простака и не скупится на унижающие собственное достоинство слова. Поведать он мог о чём угодно, но предпочёл уделить внимание своей личности. И самое интересное, Мо Янь не является главным действующим лицом повествования — эту роль он отвёл другому человеку, вынужденному постоянно перерождаться. Именно от его лица Мо Янь предпочитает говорить. Только слишком часто Мо Янь забывает о чём пишет, отдаляя внимание читателя от страданий очередного перерождения. Книга «Устал рождаться и умирать» начинается бодро, но вскоре теряет очертания, всё более распадаясь и не неся уже того смысла, которого до этого Мо Янь придерживался.
У классической китайской литературы есть определённые черты, по которым она легко узнаётся. Мо Янь старается их придерживаться, но только на первых страницах, чтобы далее уже никогда о них не вспоминать. По своей форме «Устал рождаться и умирать» напоминает книги XIX века, где автор в начале каждой главы коротко сообщает её содержание, что убивает интерес у читателя XXI века, не терпящего, когда ему сообщают подобную информацию заранее. Содержание книги — это скорее сказка: Мо Янь соединил в повествовании представления китайцев о загробной жизни и буддийскую модель перерождений. Результатом этого стало вольное авторское представление о перерождениях одного человека, убитого ещё до появления на свет самого Мо Яня. Можно сказать больше, Мо Янь и этот человек родились практически в одно время, о чём читатель вскоре догадается, недоумевая от тех эпитетов, которыми автор награждает не только себя в утробе матери, но и унизительные выражения о своих же родителях. Как-то это расходится с нормами конфуцианской морали, как бы ещё не совсем уничтоженную Культурной революцией.
Самые яркие эпизоды книги связаны с жизнью осла, в теле которого главный герой перерождается в начале. Мо Янь не описывает состояние плода до родов. Читатель сразу знакомится с его первыми мыслями после появления на свет. Автор никого не жалеет, едко делясь словами человека, что ныне обратился в упрямое животное. Постепенно происходит отождествление, дающееся с большим трудом. Десять лет ему будет отведено прожить в данном обличье, и все эти годы стали для Мо Яня отличной возможностью рассказать о собственном детстве, которое он помнит плохо, зато от лица осла представляет их в весьма забавном виде. Это скорее эпическое представление быта осла, нежели серьёзное понимание мотивов человека, волей Владыки подземного мира принявшего обличье подобного существа. Не сказать чтобы Мо Янь переживал за подобные проделки, поскольку и себя он ни в грош не ставит, равняя едва ли не с самым последним созданием на планете.
Мо Янь не просто вспоминает себя, он ещё и цитирует собственные произведения, заполняя ими страницы. Будто нет новых мыслей — книга и без того напоминает свалку всего. Со смертью осла Мо Янь потерялся, не сумев вжиться в последующие перерождения. Безлико перед читателем проходит вол, также незаметно пройдёт собака. Некоторый всплеск у Мо Яня случится только при перерождении главного героя в свинью. Тут автор никак не мог стоять в стороне, поскольку вдоль и поперёк страницы исписаны выдержками из его труда по свиноводству, которые он с успехом применил в данном художественном произведении. Теперь читателя будет ждать более эпический рассказ, где найдётся место революции внутри стада и счастливому спасению от глупостей коллективного разума людей. Свинье Мо Яня не хватает размаха, поэтому её нельзя поставить в один ряд с Чжу Бацзе из «Путешествия на запад» У Чэнъэня. Думается, Мо Янь хотел создать нечто подобное, да не сумел.
Простых событий не происходит. Мо Янь родился и рос в сложное время. Его можно приравнять к китайской поговорке, говорящей, что плохо жить в эпоху перемен. В пятидесятых годах XX века компартия Китая наконец-то твёрдо встала на ноги, после многолетней гражданской войны и отражения агрессии японских милитаристов. Происходившие в стране события не принесли облегчения крестьянам, как и ранее изнывающих под гнётом. Описываемая Мо Янем история уникальна ещё и в том плане, что сюжет не просто отражает прошедшие события, но и показывает жизнь людей, которым Мао Цзедун позволил вести личное хозяйство. Когда весь Китай объединялся в колхозы, сохранился один крестьянин в Гаоми, выступивший против большинства — им был отец Мо Яня. На такой почве сами собой возникают трения между родителем и сыновьями. И это уже не проблема отцов и детей, а более трагический процесс, отчасти раскрытый Мо Янем для внимания читателя. В такой атмосфере было бы слишком кощунственным уделять внимание перерождениям главного героя, отодвинутого вследствие этого на задний план.
Надо было главному герою внимательнее читать «Тибетскую книгу мёртвых». В ней подробно рассказывается, как не ошибиться при перерождении. Впрочем, китайская мифология накладывает свои особенности: душа уже не нуждается в необходимости принять факт смерти тела и в очищении перед новой жизнью.
Автор: Константин Трунин