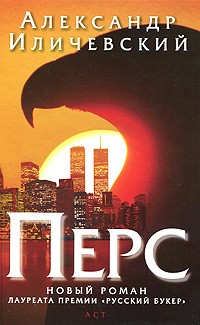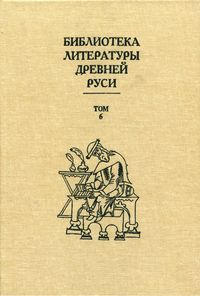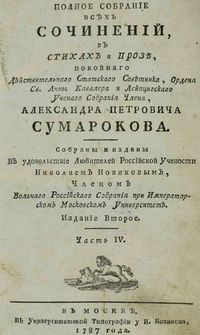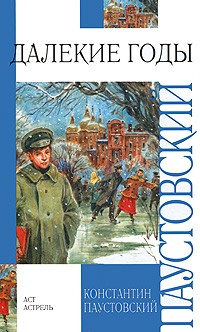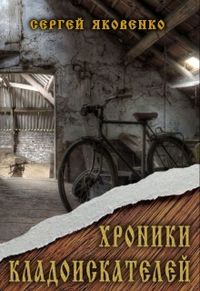Владимир Киселёв «За гранью возможного» (1985)
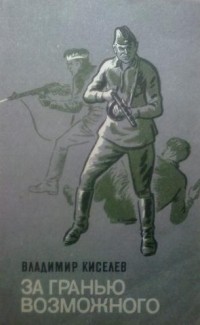
Партизанской деятельности Александра Рабцевича и Карла Линке посвящается, действовавших на территории Белоруссии, уничтожавших инфраструктуру и живую силу фашистского противника. Трудились они смело, диверсии проводили успешно и по окончании войны нашли дело по душе. Владимир Киселёв в художественной форме взялся рассказать о былом, на возвышенных тонах придав повествованию позитивный настрой. Со страхом в сердце, но с твёрдой верой в победу, действовали партизаны и тем принесли пользу для общего дела.
Читатель с самого начала удивляется, поскольку не сразу способен понять, как среди партизан мог оказаться немец Линке. Почему к нему все хорошо относились и никто не думал подозревать в нём врага? Киселёв внёс требуемую ясность, напомнив о Гражданской войне, где не русский шёл на русского, а рабочий и крестьянин на помещика и буржуя. Так и в случае с Линке, он — антифашист — стремится избавить Германию от засилья фашистов.
Содержание книги Киселёва показывает важность деятельности партизан. Первой громкой внутренней операцией группы Рабцевича «Храбрецы» стала диверсия Крыловича, признаваемая одной из крупнейших. Прочие диверсии не носили столь важного значения, однако и они затрудняли передвижение противника. Важнейшим свидетельством отчаянного шага стало обнаружение вещественных доказательств намерения фашисткой Германии применять на полях сражений химическое оружие. В раскрытии этого обстоятельства лучше прочих справились бойцы группы «Храбрецы».
Нельзя установить, насколько тяжело складывались жизненные условия партизан. Согласно приведённого текста особых бед они не знали. Противник лишь передвигался по территории, никак не проявляя себя для искоренения партизанской угрозы, изредка устраивая засады. Нехватка вооружения почти никак не отмечена. Партизаны не голодали, всегда чисто одевались и мылись в бане. Если они гибли, то по собственной глупости, не соизволив провести разведку.
Диверсия следует за диверсией. На страницах книги Киселёва немецкие поезда пускаются под откос в огромном количестве. В одну из ночей в ходе общей операции «Рельсовая война», в которой приняла участие и группа Рабцевича, было взорвано сорок две тысячи рельсов. Масштаб партизанской деятельности поражает воображение. При таком обилии событий необходимо говорить уже об открытой войне, отчего-то игнорируемой противником.
Находилось место для мирной жизни, сельскохозяйственной деятельности, шуткам, свадьбам и всему остальному, казалось бы не должному происходить в столь напряжённый исторический момент. Киселёв легко отказался от представлений о героизме, как о проявлении отчаянности. Заложить мину считалось необходимым, но и подвиг снабженца ценился выше успешных диверсий, так как поддерживать в бойцах дух, такое же важное занятие, как ослабление противника.
Важную роль в успехе группы сыграл её командир. Рабцевич старался найти общий язык с подчинёнными ему людьми, устраняя проявление противоречий. Он убеждал в необходимости делать определённую работу, не позволяя горячим головам идти на неоправданный риск. Только зная ситуацию заранее, можно провести диверсию. Лишь сытый и готовый на свершение человек не оступится в последнее мгновение и дождётся необходимого момента.
Киселёв стремился показать способного на невозможное человека. Каждый добивался поставленных целей, осознавая сопутствующий риск. Как бы не сложились судьбы партизан после, во время войны они жили отличной от привычного им образа жизнью. Действовать приходилось в том числе и мирному населению, помогавшему партизанам в их деятельности, как продовольствием, так и находя в рядах противника сомневающихся, готовых отказаться от фашизма и влиться в отряды сопротивления.
Без лишней пропаганды, просто превознося подвиги людей, Владимир Киселёв и написал книгу «За гранью возможного».
Автор: Константин Трунин