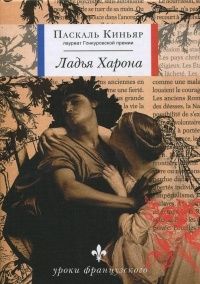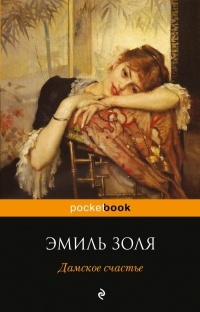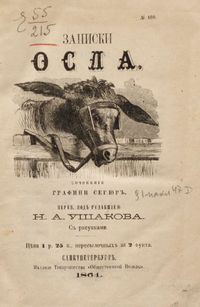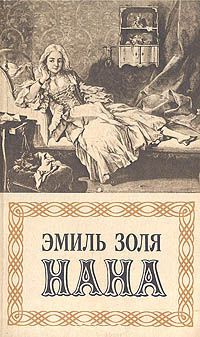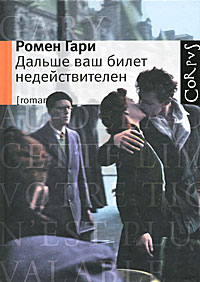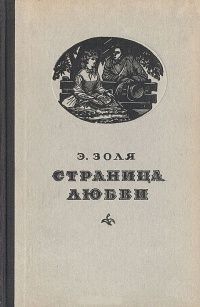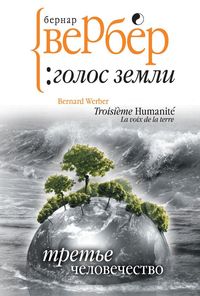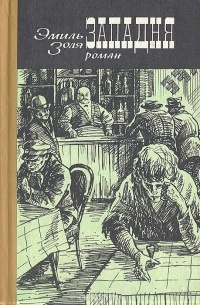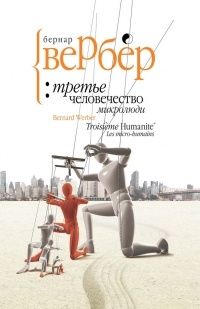Ромен Роллан «Жан-Кристоф. Том 1» (1904)
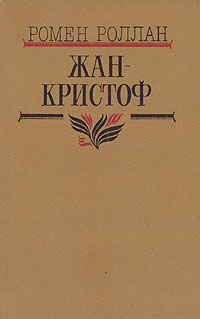
В 1915 году французский писатель Ромен Роллан получил Нобелевскую премию по литературе, во многом благодаря роману-реке «Жан-Кристоф», повествующему о жизни музыканта с рождения и до смерти. Будучи причастным к истории музыки, Роллан взялся отобразить стадии становления талантливого человека, чьи дарования не сразу находят признание в обществе. Сам Роллан разделил десятикнижие на четыре тома, поместив в первый повествование о становлении главного героя, его вхождении в жизнь, дружеских и любовных привязанностях, а также о понимании тяжести существования вообще.
Поэтические названия зачинающих историю книг «Заря», «Утро» и «Отрочество» пробуждают в читателе предвосхищение погружения в литературу уровня Льва Толстого, чьи биографические произведения хорошо известны. Роллан же писал не о себе, а взял за основу фигуру некоего одарённого человека. Возможно, свою роль сыграло попутно создаваемое им жизнеописание Бетховена. Так или иначе, перед читателем разворачивается история с рождения главного героя, чей дед пользуется уважением в обществе, отец беспробудно пьёт, а мать ничем примечательным не выделяется.
С первых страниц становятся понятными будущие беды Кристофа, единственной надежды деда на продолжение семейной традиции заниматься музыкой. Мальчик тянется к музыкальным инструментам. У него получается сочинять мелодии, хотя ему неведомы ноты и какая-либо иная информация, связанная с необходимыми знаниями. Разумеется, дед всему обучит Кристофа, видя в нём задатки блестящих свершений. Впрочем, какой близкий родственник не станет воспринимать посредственность гениальностью? Роллан подробно останавливается на каждой несущественной детали, наполняя повествование лишними элементами, никак не способными оказать влияние на дальнейшее развитие событий.
Роллан воссоздаёт из ничего складную историю, красиво увязывая слова. Повествование читается наперёд, но читатель не будет бежать впереди ладного слога, находя удовольствие от авторской манеры изложения. Самое главное, что происходит в жизни главного героя, это его становление и последующая необходимость кормить родителей и братьев, так как кроме него некому зарабатывать деньги. Казалось бы, отчего отец этим не занимается? Всё просто! Отец продолжает пить, для чего тащит из дома абсолютно все вещи, вплоть до музыкальных инструментов. И без того впечатлительный Кристоф вынужден искать управу на родителя, что опосредованно приведёт к печальному концу. Читатель согласится, прозябающий в пороках человек редко выбирается из самостоятельно выкопанной ямы, поскольку не думает о сооружении запасного выхода, когда его затягивает на глубину трясина патологической зависимости.
Роллан строит повествование, показывая будни главного героя, сооружая сцены. Читатель не совсем понимает, зачем Ромен так поступает, ведь такая манера создаёт пустоты в сюжете. Постепенно становится очевидным, что для главного героя не музыка является основной движущей силой. Безусловно, Кристоф талантлив и вертится доступными ему способами, но Роллан этому не уделяет должного внимания, предпочитая рассказывать о друзьях и девушках, общаясь с которыми главный герой сперва веселится, чтобы потом впасть в уныние. Именно так происходит в очередной раз, стоит новому персонажу появиться на страницах. Читатель сразу понимает, что Роллан будет упиваться описанием развития отношений, подводя происходящее к ожидаемому разрыву отношений.
Очень часто Роллан не отличается последовательностью. Он может рассказать о событиях, а потом вернуться назад, делая предыдущий текст лишним. Понятно, писатель не может излагать события, заранее зная наперёд обо всём, что в итоге у него должно получиться. Создание литературных произведений — трудный процесс, требующий от писателя задействования скрытых способностей, а также изрядной доли воображения, без чего невозможно построить грамотную повествовательную линию.
Женские портреты у Роллана вышли удивительно точными, будто списанными с натуры. Кристофу предстоит познать на себе женское влияние и перебороть связанные с этим подъёмы и падения настроения. Всё-таки человеческая жизнь полна неожиданностей, хотя нового во взаимоотношениях не наблюдается. Аналогичным чувствам были подвержены прежние поколения людей, будут подвержены и следующие. Кристоф ещё не осознал необходимость держаться в стороне от чувств и ставить себя выше обыденности, поэтому Роллан щедро пересыпает страницы солью высохших слёз главного героя, склонного к эмоциональности и не всегда способного вернуть себе равновесие.
Кажется, Кристоф набрался впечатлений, теперь пришла пора добиваться признания в мире музыки. Надо полагать, он ещё не раз столкнётся с непониманием, но выстоит и обретёт покой.
Автор: Константин Трунин