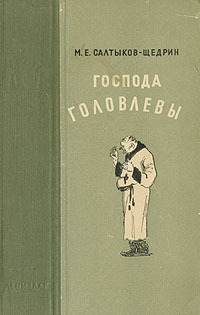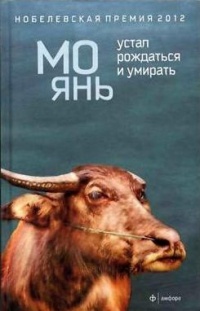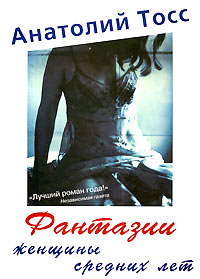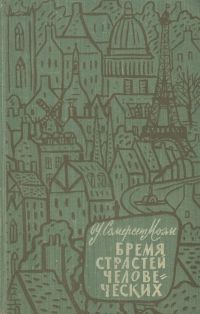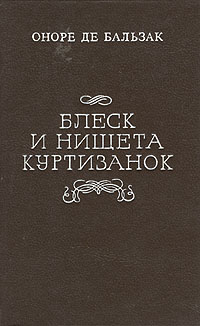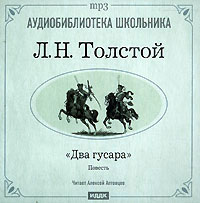Лион Фейхтвангер «Еврей Зюсс» (1922)
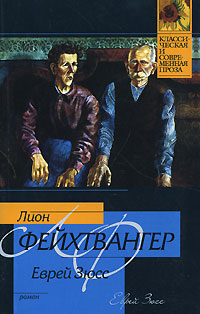
Евреев в Европе не любили. Их притесняли разными способами, одним из которых было условие жить в гетто, не имея при этом права выходить за его пределы. Жизнь евреев напоминала болото, отделённое от бурной реки платиной. Этажи над их домами надстраивались, а возможностью прокормить себя становились операции с деньгами: единственное, что им позволялось. Ужас положения доходил до того, если опираться на исторические документы, следуя которым еврей не мог заниматься прелюбодеянием с христианкой — за это их обоих отправляли на костёр. Радужная перспектива возникала только в одном случае, когда еврей отказывался от иудаизма и переходил в христианскую веру. Только тогда он переставал быть евреем и становился полноправным гражданином. Лион Фейхтвангер предложил свой вариант жизни реального исторического лица Зюсса Оппенгеймера, жившего в начале XVIII века на территории герцогства Вюртемберг, части Священной Римской империи. На фоне возвышения Зюсса Фейхтвангер показывает быт еврейской общины такой, какой она была.
Без должных природных дарований выбиться на высокие позиции нельзя, если у тебя нет должных связей. А если к тому же ты ещё и еврей, то тебе ничего не поможет. Зюсс до последнего будет верен своей религии, отрицая все предложения перейти в католичество. И это не смотря на то, что сам Зюсс имел влиятельного отца, о котором предпочитал не говорить, и евреем он был только по матери. В то время, как принявший христианскую веру, брат, в отличии от Зюсса, был чистокровным евреем, что не помешало ему сделать карьеру, отказавшись от предрассудков и, разумеется, иудаизма. Это станет наиболее показательным в рассуждениях Фейхтвангера, когда Зюсса поведут на виселицу. Каким бы не был жизненный путь Оппенгеймера, читатель должен понимать назначение книги, поскольку оно к Зюссу имеет опосредованное отношение. Более показательный пример найти трудно, может именно поэтому Фейхтвангер взялся рассказать о евреях в своей самой первой книге, стараясь донести до читателя всю тяжесть предопределения: человек не выбирает где ему родиться, но человек определяет как ему жить, ведь человек всегда может стать кем-то другим, если откажется от данной судьбой жизни. Зюсс предпочёл остаться евреем.
Не сказать, чтобы Зюсс был добродетельным. Современный читатель примерно так себе евреев и представляет. В его мыслях они стремятся занимать руководящие должности, умеют извлекать громадные прибыли из любой деятельности. И при этом ему это всё не нравится. Причина очевидна — зависть. Почему-то не получается у обыкновенного человека добиться тех же позиций, которые доступны евреям. Умственные ли способности тому благоприятствуют или среди евреев процветает кумовство — это не такая уж и важность. Ведь Зюсс стал едва ли не первым лицом в Вюртемберге, давая советы герцогу о том, как следует проводить реформы, в результате которых евреев ещё больше возненавидели. Теперь в армию стали призывать почти всех, за рождение детей до двадцати пяти лет приходилось платить непомерный налог, как и налог абсолютно на всё, лишь бы казна постоянно пополнялась деньгами. Наличность при Зюссе решала всё, так как любая должность покупалась, и будь ты способным, но безденежным, то прозябать тебе в бедности и дальше. Конечно, воля автора трактует события и обстоятельства так, как ему угодно. Есть и в словах Фейхтвангера желание показать ситуацию с такой стороны, чтобы при всей заносчивости обелить Зюсса. В той же Франции должности покупались аналогично, но там отчего-то государственный аппарат не скрипел и держался как следует.
И если сейчас представления о евреях таковы, как сказано выше. То в начале XVIII века таковым являлся только Зюсс. Тогда как все остальные его сородичи прозябали в невыносимых условиях. И если они где-то жили относительно спокойно, то в Германии и Польше они совсем обнищали. Хотя евреи именно этих мест ныне чуть ли не считаются прообразом тех евреев, которые были испокон веков. Что разумеется является заблуждением. Никогда евреи не были жалким и униженным народом — так сложились обстоятельства, заставившие их занять выжидательную позицию. Достаточно вспомнить древние времена, особенно Ханаан, Карфаген и последний бунт Иудеи: евреи никогда не отличались покорностью, предпочитая умереть, нежели позволить собой помыкать. Отчего случилось именно то, что описывает Фейхтвангер в «Еврее Зюссе», прояснить трудно. Сам Фейхтвангер не говорит отчего всё именно так, хотя он и подробно излагает тяжёлое положение людей иудейской веры. Безусловно, ситуация сложилась плачевно, и евреи плачут, особенно когда хоронят того, кто первым, за долгие века угнетения, поднялся до столь важного положения в обществе.
Хорошо, что Фейхтвангер решился высказать на страницах всю скопившуюся боль еврейского народа. Во многом история евреев стала понятнее. И радостных моментов в ней крайне мало, если брать во внимание события последних двух тысячелетий.
Автор: Константин Трунин