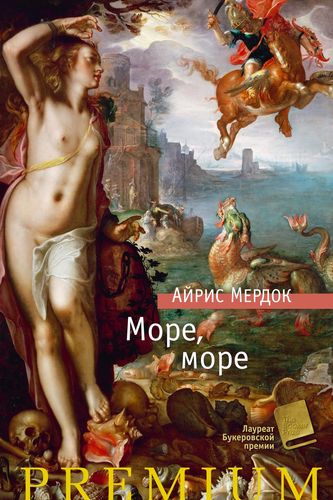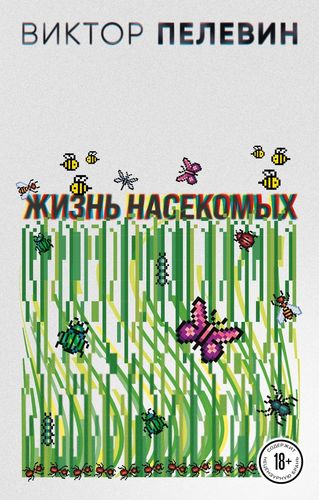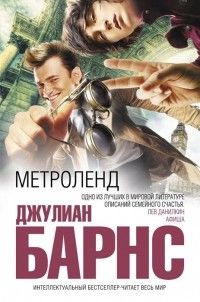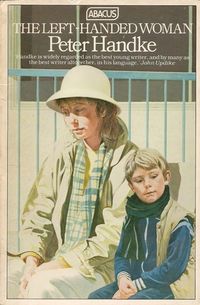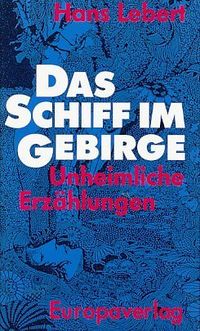Кадзуо Исигуро «Безутешные» (1995)
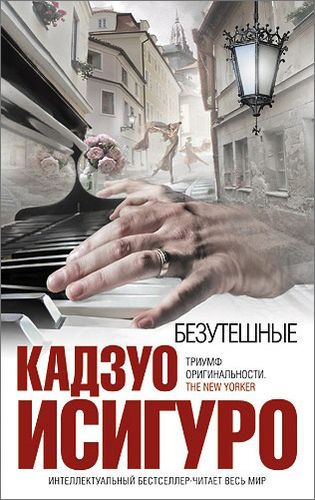
Букеровская премия получена. О чём теперь писать? Исигуро уже не просто подающий надежды писатель — он стал состоявшимся автором. Рассказав две большие истории про японцев и одну про утрачиваемое ремесло английских дворецких, Кадзуо полагалось продолжить путь совершенствования. Но не получилось. Четвёртый роман вышел скомканным, не содержащим цельного сюжета, состоящий из вороха разрозненных эпизодов. Кому-то покажется, будто перед ним разворачивается сюжет, памятный по «Замку» Франца Кафки, только вместо землемера за главного героя выступает известный пианист. Такое впечатление является обманчивым. Не сможет читатель найти абсурда. Каждое представленное действие в меру разумно, за тем исключением, что Исигуро не задумался о необходимости расставить эпизоды в осмысленном порядке. Тогда читатель мог посчитать, словно Набоков разбросал черновые заметки, написанные на небольшого размера листах, после им объединяемые под одно. В случае Кадзуо всё не так. Даже можно подумать, «Безутешные» — это и есть черновик, не переписанный набело.
О чем же роман «Безутешные»? Продолжал задавать вопрос читатель, выяснив определяющие моменты отношения к произведению. О безутешных днях, проведённых за его созданием у автора, и за чтением у пожелавших с ним ознакомиться. Остаётся думать, не получи Исигуро Букеровскую премию, создать ему столь же пронзительное произведение, ни в чём не уступающее трём предыдущим. Шесть лет понадобилось, чтобы сплести нечто новое. Приходится думать, Кадзуо находился в творческом кризисе. Он раз за разом подходил к написанию, пока у него не возник образ известного пианиста. Впрочем, об известности главного героя приходится судить по словам непосредственно писателя. Ни разу читатель не убедится в музыкальных дарованиях представленного на страницах персонажа. Можно было сделать не пианистом, кем угодно другим. И отправить его в не менее далёкое путешествие, которое проделал дворецкий в «Остатке дня». Зачем понадобилось устраивать подобие Блумсдэя, используя вместо Дублина неизвестный европейский город? За главным героем произведения столь же неинтересно следить, как большинству читателей за героями «Улисса» за авторством Джеймса Джойса.
Когда внимание к пианисту ослабевает, Исигуро принимался рассказывать про прочих действующих лиц. Читатель узнавал про мальчика, отправленного учиться к преподавателю, бравшегося обучать исключительно талантливых детей. И узнавал, насколько этому мальчику опротивело заниматься музыкой. После узнавал про девочку, поздно вспомнившую про забытого в коробке хомяка, отчего тот там же окончил свои дни. Периодически действие перемещается в прошлое, без чего Кадзуо не мог обойтись. Но если прежде былое формировало настоящее, касательно «Безутешных» оно вовсе ни на что не влияло.
Читатель может подумать, сколь тяжело вникать в текст, всё-таки должный содержать рациональное объяснение представленного ко вниманию. Или может получится найти акценты, потянув за нити — раскрывая сюжет с новой стороны. А может объяснение крылось в другом — Исигуро намеренно создавал тяжёлое для восприятия произведение, сообразуясь с истиной: пиши непонятно, считающие себя за умных не позволят упасть в грязь лицом. Кому после прочтения роман не доставил удовольствия, кем не был понят, тем смело можно было указывать на шаткость их положения, не должных более считаться за достойных к проявлению внимания. Ежели кто говорил, насколько Исигуро создал глубокий роман, ещё и громко внося в различные топы, тот уже считался за разбирающегося в литературе человека. Однако, до всего этого читателю дела всё равно не будет, если у него есть собственная голова на плечах. Пожалуй, сам Исигуро понимал, с таким содержанием ему дорога разве только в лауреаты литературных премий. Можно сказать, закладывался первый камень, через двадцать два года оправдавший творческие муки.
Автор: Константин Трунин