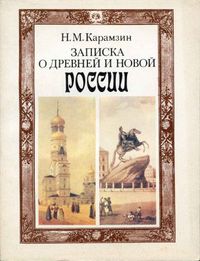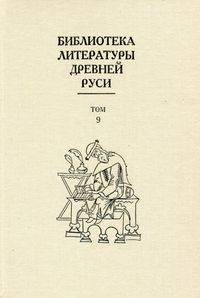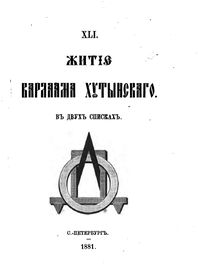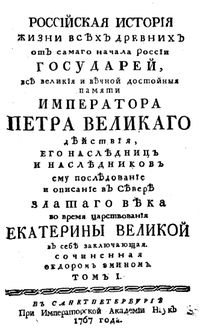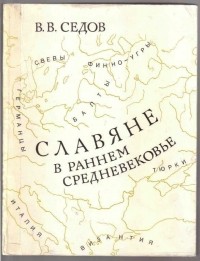Павел Мельников-Печерский «Белые голуби» (1867)
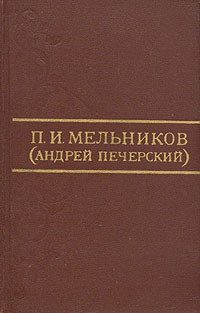
Самая таинственная секта и мало понимаемая — скопцы. Узнать об образе мыслей следовало обязательно. Мельников то успел сделать за время пребывания в Арзамасе, пока они не затворили уста. Быть среди них оскопившимся не считалось обязательным. Наоборот, среди скопцов имелись пророки из хлыстов. Мужчины и женщины в секте имели одинаковое значение. Вот и всё, о чём мог прежде знать сторонний человек. До Мельникова к скопцам скорее проявляли сочувствие. Но после описания ряда их обрядов в «Русском вестнике», отношение к скопцам должно было измениться на непримиримое.
Для благостного прозвания секты, скопцы называли себя белыми голубями. У них имелась и собственная мифология, берущая начало от царицы Семирамиды, оскопившей сына за отказ в интимной близости. Само же движение зародилось усилиями Ивана Тимофеевича Суслова, почитаемого равным Христу. О нём сложились удивительные сказания, согласно которым и он был распят, к тому же с него сдирали кожу, каждый раз он воскресал. Движение быстро распространялось. Особенно примечательным Мельников считает момент, когда крестьян за оскопление наказывали солдатской службой. Это возымело обратный эффект — среди солдат стало стремительно распространяться скопчество.
Заповеди скопцов могут создать ложное о них представление. За видимой кротостью сокрыто зверство проводимых ими обрядов. Они отрицают брак, считают недопустимым употреблять спиртное, вести нужно благой образ жизни, не воровать и не предаваться праздности. При этом, основной их обряд — ходить посолонь, то есть водить хоровод по солнцу, доводя тем себя до исступления, стремительно ускоряясь, пока не наступало изнеможение. После такого действия порою устраивались оргии, сопровождаемые кровавыми ритуалами.
Трудно судить о правдивости описания зверств хлыстов, поскольку Павел опирался на свидетельства, сообщённые прежними исследователями. Приводится история, как девушке отрезали грудь, после, все участвующие в ритуале, приступали к поеданию её плоти. Младенцам принято было прокалывать сердце, выпускать из трупа кровь и пить её, само тело иссушать и истирать в порошок, дабы принимать в виде снадобий.
Так в чём различие между скопцами и хлыстами? Мельников заключил так: хлысты стремятся бороться с искушениями тела силой воли, тогда как скопцы лишают тело возможности претерпевать желания. Сами хлысты подобное нанесение увечий считают недопустимым, противоречащим их представлениям о должном быть.
Человек со стороны не сможет определить, истово верующий перед ним христианин или сектант (или сектатор, как говорил непосредственно Мельников). О том, что являешься членом данного религиозного движения — было запрещено говорить. Не допускалось разглашать тайну ни родным, ни под пытками. Вследствие этого выявление хлыстов долгое время считалось спорадическими случаями, под которыми не следует искать более доступного при поверхностном знакомстве.
Как же быть? За внешним лоском кроется противоречие. Отчасти воспринимаемые за христиан, хлысты ими не являются. Они посещают православные храмы, соблюдают полагающиеся обряды, при этом оставаясь верными собственному внутреннему распорядку. Их даже нельзя назвать раскольниками, так как они станут сторонниками всякой религии, имеющей самое широкое распространение в стране. Их главный принцип — не выделяться. Тогда как в прочем, они вольны самостоятельно распоряжаться им доступным пониманием следования заповедям.
Возможно, рост влияния хлыстов, а в месте с тем и скопцов, является результатом закрытости секты и крайне болезненным выходом из неё. Мельников о том не стал рассказывать, но как-то сектанты должны иметь возможность ступить на обратный путь. Кажется, такой шаг для них невозможен. Разве не будет применим кровавый ритуал к оступившимся?
Автор: Константин Трунин