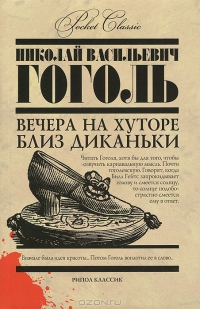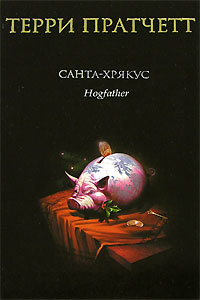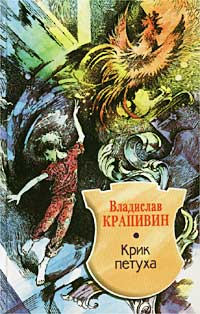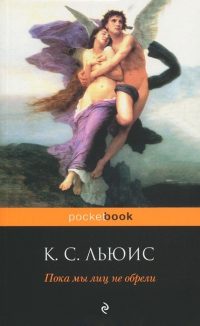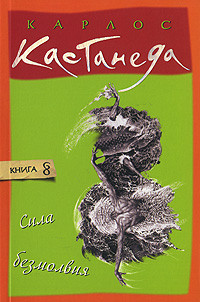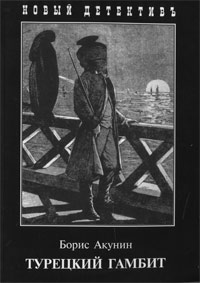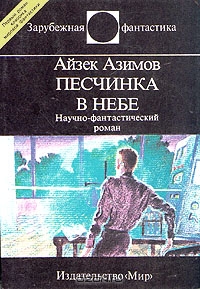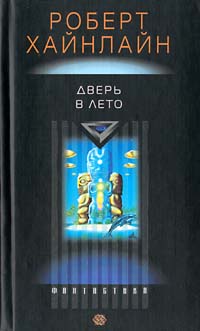Джеймс Барри «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (1906)
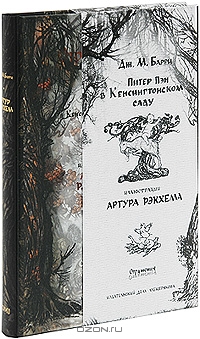
«Иметь веру в себя — это практически то же, что иметь крылья» (с)
Хорошо писать приквелы, это благое дело. Поклонники требуют, остаётся только немного включить фантазию. Западная литература вообще склонна к повествованию основного сюжета, даже не задумываясь о том, откуда вообще всё началось. И если не началось, то где искать точку опоры. Западному читателю это не интересно, ему надо видеть действие, происходящее сейчас и основное, а не истории о том, что было до. Такой подход всегда вызывает недоумение. Вроде бы читал об одном, а вылилось в другое. Куда такое годится? Возникают кривотолки. Писатель, немного погодя, решается писать приквел. Все рады, всем всё понятно. Однако, приквел в западном понимании распространяется только на предысторию для основной истории, и редко уходит куда-то дальше. Восточный писатель воспитан тысячелетиями в другой традиции — там писатель повествование начинает порой за шесть веков до описываемых событий, иначе его книгу просто не станут читать. Разные взгляды.
Сумбур возник не зря. Джеймс Барри известен историей о Питере Пэне и Венди. Мальчик, что умел летать и никогда не взрослел. Девочка, что нужна была ему взамен матери. Фея, что искала внимания. Крокодил, что искал капитана Крюка. Все нам знакомы с детства. Но что было с Питером Пэном до, откуда он пошёл, почему не взрослеет? Пытался ли Барри ответить на эти вопросы, это тоже вопрос. Скорее возникает больше новых вопросов, более связанных со смыслом повествования, нежели с давно забытой идеей предыстории. Честно говоря, вообще не интересно, что было там до. Это ведь психология западного читателя. Было и было. Главное — настоящее. Возможно, будущее. Но прошлое… Пожалуй, нет. Описывая прошлое, автор отталкивается от основной книги и толкает сюжет под нож в угоду будущих событий, что уже произошли. Либо выдаёт совсем не то, что может привести к разногласиям с первоосновой. Впрочем, Барри ставил пьесу, уже потом он написал о похождениях Питера в Кенсингтонском саду, и лишь после этого вышла в свет книга о Питере и Венди. Приквел вышел раньше основной истории. Значит все домыслы уже не так важны.
Почему же не важны? Трудно понять основную загадку Питера. Он не взрослеет. Нет, не лилипут. Нет, без врождённой аномалии. Он не только не растёт физически, он остаётся эмоционально на уровне подростка и даже не подростка, а на уровне дошкольника. Впрочем, Питер рос. Как-то же достиг он той формы, что предстаёт перед читателем. Самое удивительное — Питер сбежал от матери в семь дней отроду. Как такое могло произойти непонятно. Может, принёсший его аист, снялся с гнезда и полетел в парк на новое место жительства, только Барри об этом не написал. Питер вполне успешно рос и развивался. Когда настал тот момент, что природа сказала ему хватит. И почему так произошло. Сыграли свою роль феи и эльфы? Почему бы и нет.
Феи и Эльфы в творчестве Барри довольно самобытные создания. Они вполне укладываются в сознании ребёнка, но не укладываются в сознании читателя фэнтези. Идёт внутреннее отторжение таких взбалмошных созданий, суть существования которых неясна. Эти создания, порождённые хаосом в виде детского смеха, не могут быть воплощением добра. Феи и Эльфы Барри скорее неразумные создания, практически животные, так и не сумевшие эволюционировать в человека. Также как и Питер, они когда-то остановились на уровне дошкольников и теперь живут ничего не желая менять. Ум ребёнка, способности магической сущности. Иерархия фей и эльфов лишний раз подтверждает теорию хаоса. У них главный тот, кто младше. Как такое может быть и почему у них возведён в культ принцип уважения старшего младшему? Может восприятие мира со стороны ребёнка породило в них суть одного из периодов взросления, что называется коротко, ясно и понятно — Я сам! Самостоятельности этим существам не занимать.
Но не с феями и эльфами сравнивает себя Питер Пэн. Он — птица. Вернее, птица наполовину, а вторая половина осталась за человеком. Выкормыш дроздов, защитник родного гнезда. Может всё-таки не аист Питера принёс, а дрозд? Птицы стоят даже выше фей и эльфов. Однако, дрозды не умеют говорить, хотя у Барри они говорят. Будь Питер воспитанником ворон, то может и по другому мы бы воспринимали мальчика, который не хотел взрослеть. Он птица вольного полёта и летать научился видимо у птиц.
Почему же Питер Пэн не вернулся обратно к маме? История довольно слезливая и о ней вам лучше узнать из книги самостоятельно, как и о первой привязанности к девочке. Во многом книга повторяется с сюжетом «Питер Пэна и Венди», только лица разные и антураж слегка другой. Вот только одно остаётся непонятно — как Питер окажется на острове с пиратами и индейцами. Чувство недосказанности всё-таки возникло. Вот один из огрехов приквелов.
Автор: Константин Трунин