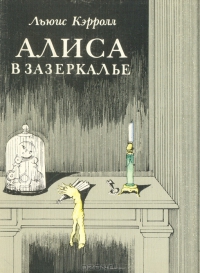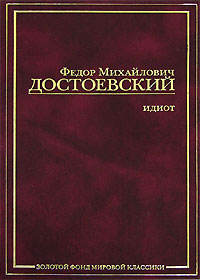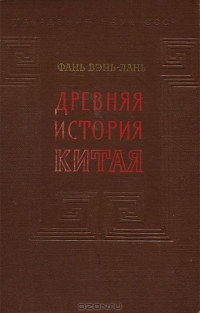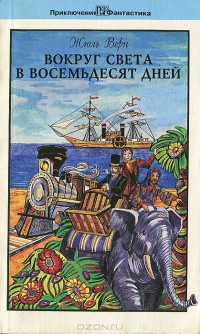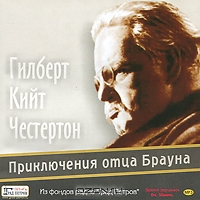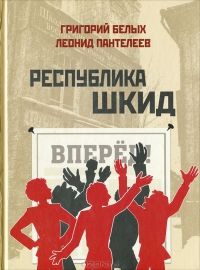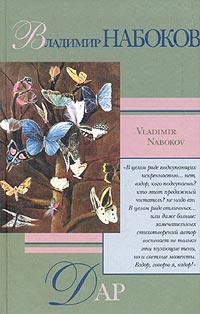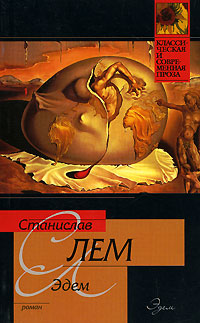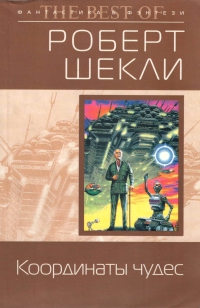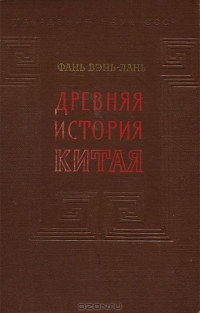
«Быть жителем мелкого государства хуже, чем большого; быть жителем крупного хуже, чем жителем единого»
Фань Вэнь-лань анализирует древнюю историю Китая
Нет в мире больше такого государства как Китай. Государства древнего, единого, могущественного. Государства, выросшего в противовес западной цивилизации, наученного всему своим собственным горьким опытом. Это государство ведёт историю уже более четырёх тысяч лет. В этом государстве было сделано много изобретений, перенятых другими странами. Всё это Китай. Его история полна событий. Если о ином народе можно только строить догадки, то китайская история чётко выстроена. Всё тщательно записывалось современниками.
И вот перед нами одна из первых попыток увязать всю историю Древнего Китая в одной книге. Политическая обстановка коммунистического толка сильно оказывала влияние на Фань Вэнь-ланя. В книге присутствуют цитаты из сочинений Ленина, Маркса, Энгельса и Мао. Без такого в нехудожественной литературе того времени было просто не обойтись. С другой стороны, книга написана до Культурной революции, а значит в ней ещё остались крохи мыслей былого китайского миропонимания, сокрушённого беспощадной жаждой реформ и старанием забыть старые традиции.
Современный Китай — наследник Древнего Китая. Четыре тысячи лет назад было много мелких царств, но все они были населены китайцами. Принято считать, что Китай является многонациональным государством при преобладании одной нации Хань. Мы говорим китайцы и не делаем особой разницы между ними. Примерно как на западе говорят русские и не делают особой разницы в том, что есть русские, а есть россияне. Так и в Китае — есть Хань. Впрочем, почему именно Хань?
Наше с вами прозвание страны Китаем пошло от одного из злейших врагов самого Китая, с которыми русский народ вступил в контакт. Особой разницы не делал никто уже тогда. Давайте вернёмся к Хань. Поднебесное государство всегда называлось по имени правящей династии. До Хань — были Цинь. Хань и Цинь — первые государства, воплотившие в себе все мелкие царства в виде единого государства. И случилось это довольно давно — чуть больше двух тысяч лет назад. Единое государство мало касается «Древней истории Китая» за авторством Фань Вэнь-ланя, поэтому о нём скажем вкратце ближе к середине очерка.
Разбираться в археологических находках нет нужды. Тем более с момента написания книги прошло слишком много лет, за это время современная археология Китая шагнула далеко вперёд и сделала больше выводов иного толка. Читателя больше заинтересует происхождение китайского письма. Прообразом иероглифов были триграммы. Там действительно были чёрточки, расположеные в виде квадрата по три горизонтальные черты. Фань Вэнь-лань даже пытается их сравнивать с азбукой Морзе. Уже тогда археологи нашли закономерность в триграммах. Они мало чем по своей сути отличались от китайских иероглифов. Только иероглифы трансформировались во множество видов при одинаковом звучании многих из них, а триграммы как и современный китайский язык при своей одинаковости могли иметь множество значений. Слово «цянь» может означать одновременно небо, отца, нефрит, металл. А слово «дао» не просто путь, как всем известно, но ещё имеет и другое важное для всего востока значение. «Дао» — это рис. Пока читаешь книги и смотришь на китайские слова, потихоньку начинаешь чувствовать себя знатоком. Мужчина — «фу». Шаг — «бу».
Из древних верований стоит отметить, что китайцы по своим верованиям произошли от собаки. Не зря ведь всю долгую историю соседства с варварскими племенами, эти самые племена поднимали на смех китайцев, ведь предки степняков — не иначе как волки. А волки сильнее домашних собак, сидящих за оградой, которую всё равно можно обойти, а при умении и перепрыгнуть. Однако, собаки собаками, а божественное мироустройство китайцы принимали, да не как западный человек. Китайцы никогда не приписывали природные явления и изобретения богам. Всего китайцы добились сами, посему на каждое изобретение есть свой древний правитель, а на каждое природное явление тоже есть правитель, сумевших его обуздать и научить китайцев как правильно с ним иметь дело. Так и повелось, что китаец теперь надеется в первую очередь на себя, а западный человек, выросший на философии древних греков, надеется на помощь сверхъестественных сил.
С 2000 года по 1500 год до н.э. возникает крупное государство Ся. Вводятся 10- и 12-ричные системы для нужд земледелия, связанные с анимизмом и астрономией. Это мы, неразумные, верим в год металлической лошади и читаем гороскопы, а китайцы уже четыре тысячи лет назад не чепухой страдали, а искали закономерности для собственных бытовых нужд. Во время Ся на востоке практикуется рабство. Раб — не считается человеком. Он хуже животного. Убить раба можно без зазрения совести. Рабы, разумеется, последствие войн. В Китае всегда было много людей и было много войн. Ся знаменуется для истории уходом от первобытного строя и переходом к созданию государственности.
С 1500 года по 1000 год до н.э. на смену Ся приходит Шан. Приручены все домашние животные, в обиходе появился металл, рабство осталось в силе. Помимо Шан было множество других мелких царств. Фань Вэнь-лань опирается только на крупные, послужившие основой для развития Китая.
После Шан возникает время Чжоу, золотого периода в истории Китая по мнению Конфуция. Формируется феодальный строй. Рабы превращаются в крестьян, их просто так уже не убьёшь, тем более отныне перестали их хоронить заживо в могиле знатного человека. Теперь крестьяне будут только крепчать и регулярно устраивать бунты против притеснений. Власть отныне государь передаёт сыну, а не своим братьям, как это было при Ся и Шан. Традиции моногамии уходят, уступая место полигамии, однако браки между представителями одного рода попадают под строгий запрет. Делалось всё это для укрупнения правящей прослойки и служило основой для зарождения будущей аристократии.
Если Шан пришёл на смену в результате внутреннего переворота, то Чжоу изначально являлись агрессивным соседом Шан. Внутренняя политика Чжоу была более революционной для своего времени, что привело к усилению позиций и постепенному захвату соседних царств. Со временем под их ударами пали Шан. Так возникло Западное Чжоу. Бывшее центральным государством Китая с 1000 года по 770 год до н.э.
Фань Вэнь-лань упоминает Пекин, бывший вотчиной одного из наследников Чжао-гуна, называвшийся тогда Цзи. Перечисляет наказания того времени: клеймо на лице, отрезание носа, отрезание ног, кастрирование мужчин, отрубание головы и обращение женщин в рабынь. От любого наказания можно было откупиться и это не было коррупцией. Существовал строго утверждённый тариф на все виды наказаний. Если есть деньги, то можно творить полное беззаконие, главное иметь кошелёк при себе. Со временем, это всё, конечно, превратилось в систему взяток, процветавшую в Китае до середины XX века. Может процветает до сих пор, этого я не знаю. Всё-таки трудно истребить традицию, официально признанную и существующую более трёх тысяч лет. Китайцы всегда осознавали сиё зло и иногда пытались с ним бороться. Любопытные могут прочитать «Речные заводи» Ши Най-аня. Вот там система круговой поруки во всей красе.
Во время чтения убеждаешься в истинности слов Фань Вэнь-ланя, в любом своём слове он ссылается на авторитетный источник современника событий и таких источников очень много. Я выписал для себя многие из них. Сомневаюсь, что среди переведённых на русский язык будет хотя бы десятая часть, однако для себя я выделил следующие: Инзин (книга перемен), Ле-цзы (даосизм), Байхутун (каноны), Хань Фэй-цзы (легенды), Дай дэ (этикет), Гоюй (истории царств), Шаньхайцзин (география), Лицзи (книга установлений), Шаншу (предания), Мо-цзы (моизм), Чжушу цзинянь (бамбуковые анналы), Мэн-цзы (конфуцианство), Шицзин (книга перемен), Шибэнь (родословные), Юэцзюэшу (юэ), Тунсисяньчжи (южные народы), Шицзи (исторические записки), Гуань-цзы (экономика), Сюнь-цзы (философия), Хуаянгоцзи (ба и шу), Чжаньгоцэ (борющиеся царства), Люйши чуньцю (земледелие), Хуайнань-цзы, Ян Дань-цзы (художественное произведение), Наньцзин (медицина), Нэйцзин (внутреннее), Линшу (акупунктура). Фань Вэнь-лань всё анализирует и со своей стороны выдаёт картину событий. Учитывая же время написания и его изначальный порыв рассказать историю Китая именно со стороны основных положений марксизма-ленинизма, то не удивляйтесь чрезмерному сочувствию крестьянам и иному трудовому люду. Ведь не зря Фань Вэнь-лань осуждает капитализм. При Западном Чжоу не было рабства, а в капиталистических странах оно есть, правда в скрытой форме.
При Чжоу разрослась сеть дорог. Китайцы любят сравнивать иероглифы именно с пересекающимися дорожками, так велико их было тогда и так велико их количество сейчас.
На смену Западному пришло Восточное Чжоу (770-400 до н.э.). Время тогда было лихое. Усиливается децентрализация власти. Многие царства подтянули свой уровень и стали влиятельными фигурами на политической карте. Чего только стоило изначально хилое царство Цинь, объединившее под своим крылом умных людей из других царств. Наверное именно Цинь, первым в истории человечества, ввело понятие «утечки мозгов». Цинь противостояли следующие царства: Чу, Ци, Цзинь, У и Юэ. Эти царства не раз пытались объединиться в борьбе против Цинь, но каждый раз кто-то больше заботился о собственных интересах. Этим Цинь и пользовалась, заключая союзы то с одним, то с другим царством, то против одного, то против другого. Шаг за шагом Цинь удалось объединить Китай. Именно в это время жили Конфуций (царство Лу), Мо-цзы (царство Сун). В царстве Чу зародился даосизм. Война Цинь за власть является одним из важнейших отрезков в истории Китая, известное как Чжаньго (период Борющихся царства). В 336 году до н.э. Цинь вводит в обиход деньги.
Хотя государства и боролись друг с другом, они всё-таки желали быть единой страной. Это выгодно для торговли, выгодно для земледелия и выгодно для мирного сосуществования. Никто не будет подтоплять твои рисовые поля, в засуху наоборот будут делиться водой. Свободная навигация по Хуанхэ.
Древним философам Фань Вэнь-лань отдаёт особое предпочтение. Может после этой книги у людей наконец-то откроются глаза на фигуру Конфуция, помимо которого большинству людей неизвестно китайцев. Назовите китайца? Конфуций. А ещё? Ээээ… Вот так и есть. Конфуций — средоточие мудрости. Ему Китай обязан всем. Конечно, Конфуций ведь был за сильную власть единоличного правителя. Мудрый Кун считал, что каждому месту нужен один человек. Не «незаменимых людей не бывает» как сказал бы Сталин. Конфуций так не считал. Каждый человек важен. Только кто-то должен править, а кто-то быть рабом. Конфуций возвёл в почёт сыновнюю почтительность, без которой немыслимо существование государства. Сейчас родителей подрастающее поколение редко уважает, а Конфуций за такое отправлял на плаху.
В противовес Конфуцию выступает фигура Мо-цзы, проповедника всеобщей любви. Он отрицал консервативный взгляд на мир, порицал заносчивость и чванство, призывал быть скромным в быту. Фань Вэнь-лань особо пестует моизм, его по сути можно назвать предвестником идей Маркса. Конфуцию и Мо-цзы противостоял Ян Чжу с идеей «всё для себя». Мэн-цзы (последователь Конфуция) сравнивал янчжусцев с животными, отвергающими собственного отца, а значит и противников всего государства. Опровергал он и крестьянскую философию Сюй Сина, говорившего: «Правители и народ должны вместе обрабатывать землю; кто не пашет, тот не ест. Ткани разной длины должны цениться одинаково, пряжа разного веса — также одинаково, различное зерно — также, башмаки разного размера — также. Тогда не будет разных цен, и даже если на базар пойдёт мальчик, его не смогут обмануть». Казалось бы в словах Сюй Сина заключена сама идея коммунизма. Однако, Фань Вэнь-лань всё-таки добавляет мудрый ответ Мэн-цзы: «Товары неодинаковы, и цена на них тоже разная. Если большие и маленькие башмаки будут продаваться по одной цене, то кто же будет делать большие? Если делать так, как говорит Сюй Син, то в Поднебесной больше не будет товаров хорошего качества — как же тогда управлять государством?». Утопия невозможна, если верить конфуцианцам.
Рука об руку с конфуцианством шёл даосизм. Философия мифического Лао-цзы была такой же консервативной. Всё в мире идеально, лучше быть уже не может, лучше ничего не делать, а просто созерцать. Настоящий даос тот, кто сможет принять действительность как факт и будет жить в гармонии с окружающими. Весьма удобно.
Не все китайские философы пытались разобраться с поведение людей. Остались труды тех, что разбирались с окружающим миром. Они не выясняли из чего состоит мир, но также пытались найти хоть что-то полезное для человека. Китайцы до V века до н.э. считали небо круглым, а землю квадратной. Цзоу Янь призвал строить понимание мира по принципу «зная малое, можно размышлять о большем». Он внёс большой вклад в миропонимание китайцев. Китайцы всегда вскрывали трупы умерших. Во многом благодаря этому их медицина шагнула далеко вперёд.
Был у китайцев и отрицающий всё Сюнь-цзы. По его мнению человек должен стоять выше природы, ни с чем не считаться, заботить лишь о благе человечества. Дополнительный кирпичик для абсолютизма.
Автор: Константин Трунин
» Read more