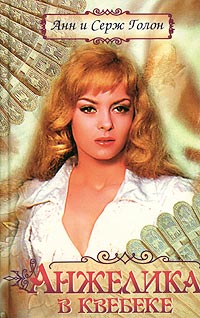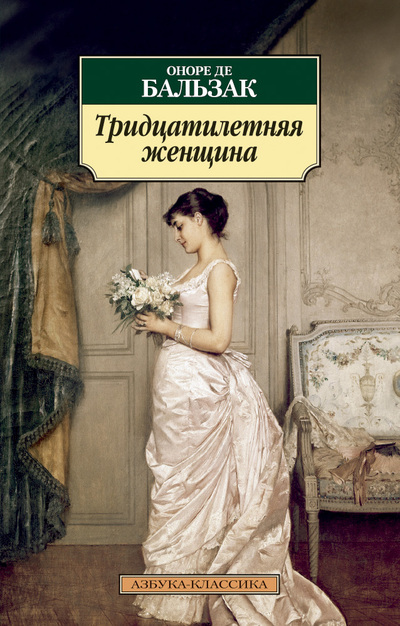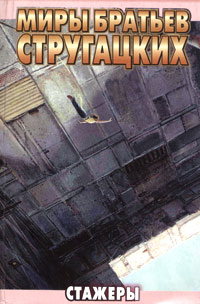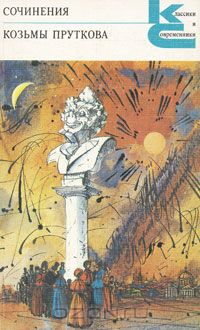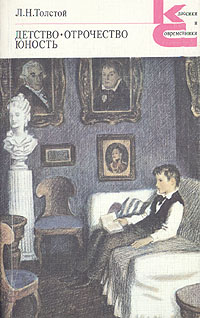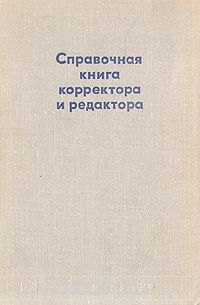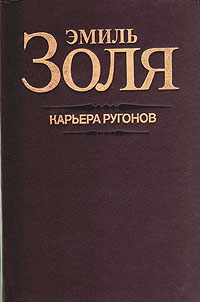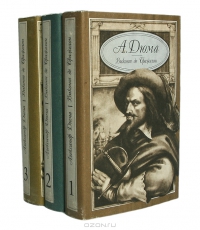Иван Тургенев «Накануне» (1860)
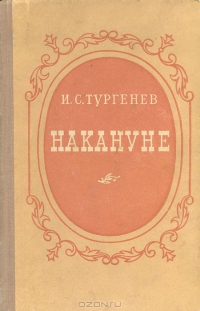
Фронда в представлении Ивана Тургенева — это нечто большее, нежели просто оригинальное понимание Фронды, имевшей место во французской истории, обогатившей русский язык словом фрондёрство, что означает предпринимать какие-то действия, но ограничиваться при этом словесной угрозой их выполнения. Именно из понимания громкоголосого пустозвонства проистекает характер главного героя романа «Накануне» болгарина Инсарова. Читателю предлагается пребывать в ожидании важных событий, должных вскоре развернуться. Но книга подходит к концу, а действия Инсарова продолжают удерживать всё накануне должного произойти. Элементы недосказанности отсутствуют, а истинно тургеневская манера изложения в единой канве повествовательной линии больше напоминает мелодраму, где все родственники, только уже под другими именами. Жизненный путь героя Тургенева постоянно сводится к внутренней борьбе за собственные идеалы, жертвой которых он обязан в итоге пасть, причём не самой разумной смертью. Тургенев фрондёрствует от начала и до конца, оставив читателя наедине с собственными мыслями.
Тургенев начинает вводить читателя в курс дела издалека, останавливаясь на диспуте двух философов с разным взглядом на мир. Из их диалога можно сделать множество разноуровневых выводов, пока в мирную жизнь творческих людей не врывается буйный Инсаров, пребывающий в мечтах об освобождении родной Болгарии от влияния Османской Империи. Его просто переполняет желание оказать помощь угнетённому народу. Одиозная идея в очередной раз заслоняет разум главного героя тургеневских книг: несостоятельность мироощущения и бунтарский дух Рудина хорошо известны читателю. Инсаров практически ничем не отличается, кроме высокопарных призывов к необходимости начать борьбу прямо сейчас. У болгарина горят глаза, и он не ограничивается одними словами, чтобы потом в безликой массе пасть под случайной пулей француза. Но Инсаров и не равняется чуть запоздалому образу Базарова, родившемуся почти в одно с ним время. Всех героев Тургенева постоянно что-то гложет изнутри, не давая им покоя. Их энергию надо было направлять в созидательное русло, чтобы вместо хаотических перемещений дать шанс на реализацию других потенциалов, безнадёжно убитых влиянием политики.
Найти объяснение метаниям главного героя не получится. Это надо принять как должное. Болгарин необязательно должен стремиться принести себя на алтарь победы Родины. Впрочем, всегда были люди — одержимые идеями, чем пользуются более дальновидные интриганы, возмущающие определённую группу индивидуумов, чтобы в нужный момент выхватить призовой флаг из их рук. Не расквитайся Тургенев с главным героем таким типичным для себя образом, то пришлось бы показывать более печальную картину краха идеалов затуманенного разума Инсарова, чей молодой пыл так легко остудить, но только по прошествии времени и дав ему возможность насладиться стеной из обломанных человеческих рогов, о которую он сам лично сломал перед этим свои.
«Накануне» изобилует диалогами и монологами. Можно от них спастись подобно немцу, оскорблявшему в этой книге дам: уйди с головой под воду от вмешательства грубой силы. Однако, Тургенев всё равно показал читателю ещё один образ истинного революционера, каким бы печальным он не был. Задор Инсарова будет долго стоять перед глазами, как наиболее объективный и достоверный. Человек будет бороться за иллюзорную истину, так до конца и не осознав, что вся его жизнь была по сути наполнена пустотой на фоне общих народных волнений, имевших истинную разрушительную силу. Взяв за основу тысячи пустышек — рождается новый уклад жизни. И так из противоречий создаётся временная историческая истина.
Огня в глазах мало, жара в сердце недостаточно: нужно иметь крепкое здоровье, иначе пожар начнётся с головы, заразив кровь и вызвав неизбежный крах надежд.
Автор: Константин Трунин