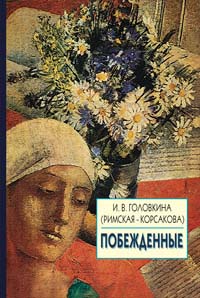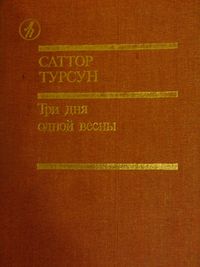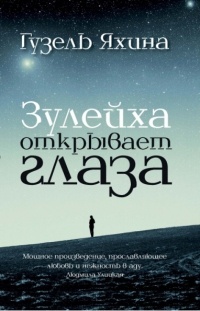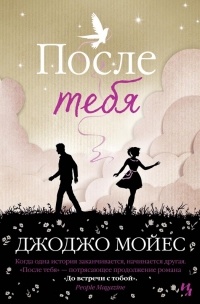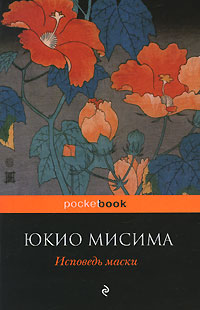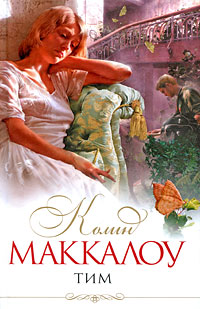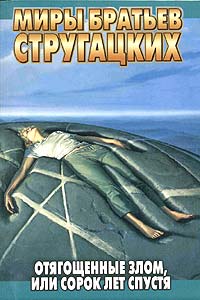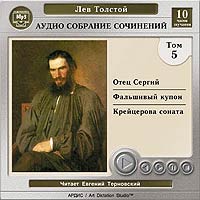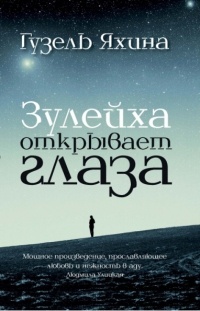
Писателям-неудачникам всегда приводят в пример людей, долго не находивших отклика у издательств. Долго бы продолжала пытаться пристроить текст и Гузель Яхина, да вот повезло — её печатает «АСТ», а именно «Редакция Елены Шубиной». Никому ненужная история мгновенно обретает множество читателей, автор становится лауреатом трёх престижных премий: «Книга года», «Ясная поляна» и «Большая книга», её первое крупное творение входит в короткий список «Русского Букера» и «Носа». Чистый доход только от наград перевалил за пять миллионов рублей. Чем Яхина не пример после такого успеха писателям-неудачникам? Нужно не сдаваться и верить в себя до конца, даже если и ничего достойного в тебе на самом деле нет.
Нитками из высохших слёз встречает читателя книга «Зулейха открывает глаза». Всё плохо в жизни главной героини — жертвы домашнего насилия. И пока страна погружается во мрак, раскулачиваемая беднотой, гаснет свет и во взгляде Зулейхи. Каждый раз она открывает глаза и видит несправедливость. Её колотить — излюбленное занятие мужа. Её изводить — страстное увлечение старухи-свекрови. Поскольку она маленького роста, то спать ей приходится на сундуке. Выдюжит ли Зулейха при таких обстоятельствах, если продолжит вынашивать будущих мертвецов? Родить сына не получается. Дочерей ничего не держит. Может Яхина не хотела плодить новый выводок жертв действительности? Нужен мальчик, но его нет.
Угнетение в семье распространяется только на Зулейху. Она со смирением принимает традиции народа, когда женщине не полагается заявлять о правах. Складывается ощущение, будто главная героиня живёт в замкнутом мире, куда иногда проникают жадные до урожая и скота красноордынцы-нэповцы, чтобы читатель окончательно понял, насколько тяжело жилось в двадцатые годы XX века. Никакого феминизма и никаких прав на кусок земли. Ты постоянно кому-то должен: хоть умри, да отдай. Вырваться невозможно. Зулейха не могла потребовать уважать своё достоинство, как бы не открывала глаза. Судьбою предначертано подчиняться воле других.
Период нахождения Зулейхи в доме мужа — идеальное представление не только о страданиях татар в то непростое время, но и характерное описание будней населения при становлении советского государства. Ничего нового читатель из текста не узнает. Яхина предлагает посмотреть на прошлое с несколько иного угла — от лица женщины-мусульманки. Пока крестьяне и рабочие свергали кулаков, рабы не могли рассчитывать на освобождение от гнёта. Мирись или получи пулю в лоб, коли заявишь о достоинстве личности, то доказывать правоту придётся перед небесным судьёй.
Начальные эпизоды — кладезь полезной информации. Происходящее на страницах ярко предстаёт перед взором. Кажется, дальше накал страстей будет только увеличиваться, а жажда вчитываться усилится. Но вот когда доходит дело до раскулачивания, шестимесячного пребывания в вагоне и так долго ожидаемого поселения в Сибири, тогда и становится понятным нежелание издательств давать ход дебютной работе тогда ещё малоизвестного автора. Никто не поверил в возможность раскрутить книгу с таким содержанием.
Не хватило Яхиной запала — приходится это признать. Вся её энергия ушла на отображение будней женщины в неблагоприятных обстоятельствах домашнего насилия, о чём она могла знать лично, либо по рассказам. Каждая строка сквозит болью, давая понимание истинной природы человека, ничем не отличающегося от животного. Кто сильнее, тот и «насилует»: Зулейху — муж, мужа — нэповцы.
Иллюзия негатива буйно расцветает, стоит начаться мытарствам главной героини. Не стоит ожидать обретение счастья. Всё складывается хуже некуда. Однако надо признать, Зулейхе постоянно везёт. Она, как настоящий представитель мудрости восточного человека, подсознательно понимает благо от несчастий. Цепочка происходящих с ней событий выстраивается Яхиной соответственно — сперва главная героиня едва не захлёбывается, после чего благополучно всплывает, ожидая следующих проблем.
Пошла по этапу — избежала смерти от инфекции, корабль утонул — родила сына, началась война — кому-то быть свободным. В череде описываемых ситуаций надо быть готовым к резким поворотам сюжета. Чем сильнее будут страдания Зулейхи, тем лучше. Надо дать ей испытать все тяжести самой крайней степени, дабы читатель вновь и вновь сочувствовал главной героине.
Такая кроха способна всех пережить и продолжать подчиняться окружающим её людям. Не была она воспитана в духе того времени, поэтому воспринимается человеком извне. Некогда ограниченное понимание мира резко для неё расширилось, только внутренний мир остался в прежних границах. Получается, не может человек совершить качественный скачок от осознания зависимости к пониманию личной свободы: он продолжает жить согласно средневековым укладам, не стремясь стать частью повзрослевшего мира. Зулейха не испытывает необходимости стать выше действительности — она часть системы.
Хотела ли Яхина показать ограниченность главной героини? Отчего Зулейха открывает глаза только буквально? Духовного роста читатель не дождётся. Сюжетные рельсы будут нести вагон вперёд, появятся новые действующие лица, линии судеб начнут пересекаться и снова расходиться. Первоначальная трагедия превращается в мелодраму. Страдают уже все, включая бывших карателей. О справедливости говорить не приходится — не существовало этого понятия в Советском Союзе. Если требовалось кого-то сделать врагом народа, то делали; получали почёт и уважение — далее шли наравне с другими по этапу. Страна стала лагерем для всех. Может поэтому Зулейха не пыталась вырваться.
Главная героиня хотела одного — жить. Она готова принять любые унижения, лишь бы продолжать дышать и в очередной раз открывать глаза. Её невозможно было сломить. Ведь трудно сломить того, кто с малых лет привык терпеть издевательства. Сталь закалилась ещё в отчем доме, поэтому Зулейхе оставалось сохранять стойкость, чем она и занимается до последних страниц.
Когда нет выхода, человек совершает невозможное. У Зулейхи такое случается постоянно, отчего в ней просыпаются сверхъестественные силы. Она не понимает, как ей удаётся совершать подобное. Яхина же только успевает создавать такие ситуации. Вот Зулейха тащит мужа домой и укладывает в постель, вот едва не тонет, а вот смело идёт против дюжины волков, не давая им шанса до неё добраться, меткими выстрелами укладывая их по одному. Такого не может быть в настоящей жизни. На страницах книги автор не ограничен в понимании реальности происходящего — он хозяин положения, имеющий собственную точку зрения.
Идти по этапу тяжело — это ещё Лев Толстой прекрасно отразил, описав страдания Нехлюдова в «Воскресении». Жить в глухих местах ещё тяжелее — читатель об этом знает по произведениям Владимира Короленко и Александра Серафимовича. Но трудно вспомнить, чтобы кто-то описывал мытарства женщины, да ещё такой положительной как Зулейха. Её зелёные глаза давно смирились, сама она — обычный человек. Не повезло — стала жертвой обстоятельств. Могла погибнуть не один раз — выжила.
Когда-нибудь Зулейха закроет глаза, так и не обретя счастья. Надо быть железным человеком, тогда ещё можно постараться не заржаветь от таких испытаний.
Автор: Константин Трунин
» Читать далее