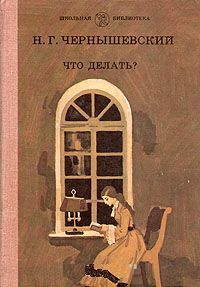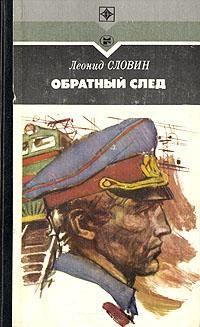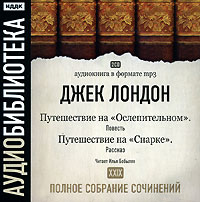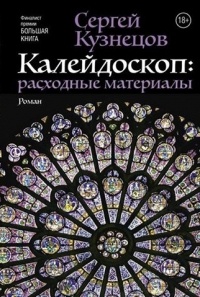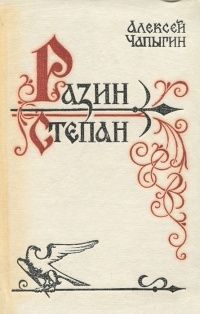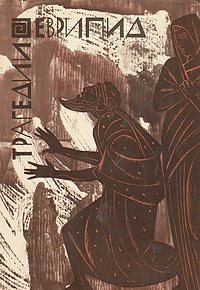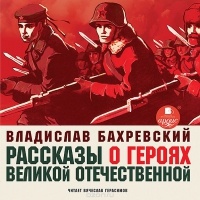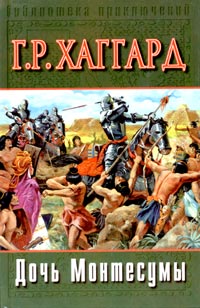Хулио Кортасар «Игра в Классики» (1963)
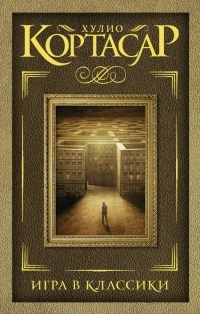
Кортасар призывает к иррациональности. Он отрицает логическое построение сюжета и советует читателю следовать прилагаемой схеме чтения. Ничего нового при этом Хулио не изобрёл, озадачив читателя лишь расширенными сносками, оформленными в виде отдельных глав. Поступить ему так пришлось в силу ещё более банальных причин — место обычных сносок занимает перевод часто встречающихся иностранных слов. Если таковое можно считать подобием детской игры Классики, то следует тут же приступать к чтению, памятуя о свойственной Кортасару манере изложения — потоку сознания. И не стоит думать, будто сути в произведении Кортасара нет. Иррациональность позволяет Хулио многое, в том числе и сомневаться в написании написанного, как читателю — в прочтении прочитанного. Коли тростник способен мыслить, значит на такое способен и человек. Впрочем, надо ещё доказать, что человек именно мыслит, а не раскачивается на ветру, воображая иллюзию жизни.
Тростник действительно способен мыслить. Кортасар аналогично способен подходить к пониманию действительности, прибегая к иррациональности. Возможное всегда возможно, покуда кто-то считает, что это является возможным. Никто ещё не доказал обратного. И никогда не докажет! Когда дело касается художественной литературы, тут уж держите Кортасара всем миром — в его силах перевернуть представления о насущном. Но пока читатель не познал суть творчества Хулио, ему стоит заварить мате и жадно пить сей обжигающий напиток. «Игра в Классики» подождёт — её можно начинать с любой главы, желательно с примечаний, можно с конца или с середины. Всегда есть возможность прочитать произведение с начала, либо любым иным способом. Важно помнить про иррациональность, тогда Кортасар становится понятнее: сугубо в рамках осознания непостижимости предлагаемого автором текста.
Форма подачи материала — податливая составляющая творческого процесса. Творец всегда окажется прав, преподнося творение в определённом виде. Он мог оформить иначе, придать конкретный смысл смыслу и указать на сочетание происходящих в сюжете событий с внешним (закнижным) миром. Определённо, нечто подобное у Кортасара имеется, ежели читатель попытается до этого дойти или доплыть, лишь бы не догоняя уезжающую крышу.
Кто в конечном счёте оказывается ленив? Читатель, не понимающий, зачем ему прыгать по тексту, или писатель, оказавшийся излишне ленивым, чтобы грамотно отредактировать написанное? Кортасар предпочёл не вносить правки в нужные места книги, свалив написанное позже и разнообразные мысли кучами в конце, приписав каждой куче номер.
В итоге читатель поймёт, что «Игра в Классики» представляет из себя набор слов из разных языков: испанский, латынь, французский, немецкий, английский, итальянский. К тому же, Хулио предпочитает преобразовывать слова, придавая им невероятные сочетания, мало доступных понимаю широкого круга людей. Действующие лица в произведении мусолят философию, литературу и всё прочее, никуда не переходя и оставаясь на одном месте. Для контраста Кортасар позволяет себе рассказать о путешественнике, чьё путешествие сводится к отсутствию путешествий. Так и разговоры героев повествования сводятся к разговорам при отсутствии необходимости говорить.
Иррациональность не поддаётся доводам рассудка, в ней нет логики, она выше разумных объяснений и противна разуму вообще. Иррациональность идеальна для потока сознания и отлично дополняет желание читателя лучше понять литературный модернизм. Иррациональность объясняет всё сущее и ей же стоит занимать определяющее место в человеческом обществе. Может быть и Кортасар отдавал иррациональности право верховодить на страницах произведений, понимая, как мало смысла во всём присущем человечеству. Но всё же читателю хочется видеть больше логики и иметь возможность приобрести новое, а не уподобляться мыслящему тростнику, продлевая иллюзию на отпущенный ему срок цветения.
Автор: Константин Трунин