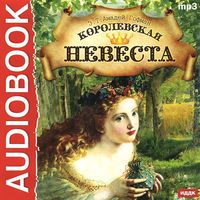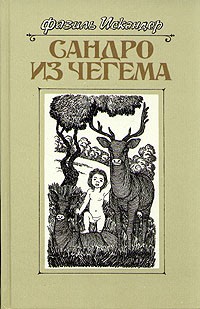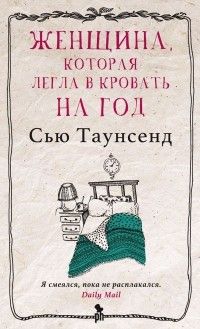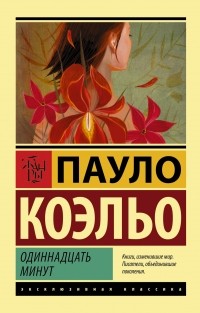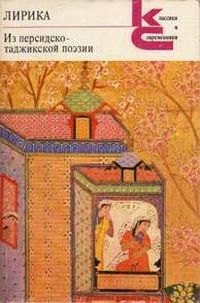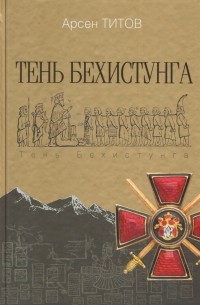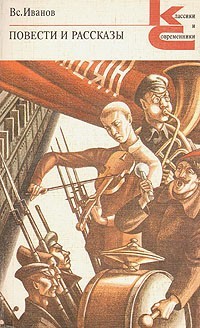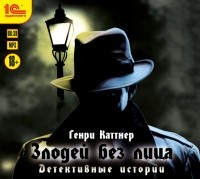Рене Декарт «Мир, или Трактат о свете» (1634)

Каждый философ в душе считает себя равным Богу. Иначе невозможно объяснить, как можно размышлять о божественном промысле, додумывать за высшее существо и при этом оставаться обыкновенным человеком. В случае Декарта всё несколько иначе, он не стал разбираться в мыслях Бога, всего лишь предложил понять окружающее людей пространство через иную реальность, возможно также созданную Богом. Только Богом в той реальности стал сам Декарт. Может именно поэтому Трактат о свете при его жизни опубликован не был.
Не верьте глазам, ушам и рукам своим, призывает Декарт. Не есть истинно то, что люди видят, слышат и ощущают. Это может быть заблуждением. Скорее, это и является заблуждением. Истину понять не представляется возможным, ибо нельзя понять то, в существовании чего склонен сомневаться. Но окружающее людей пространство существует, значит оно когда-то было создано и следовательно им кто-то ныне управляет. Из чего состоит данное пространство, как оно устроено, с помощью каких закономерностей функционирует? Поскольку во времена Декарта на подобную тему говорить не разрешалось, если мнение расходилось с позицией церкви, то пришлось за основу для предположений взять некую иную планету, на которую могла распространяться божья воля.
Допустимо предположить, что всё создал Бог, и создал так, чтобы изначальный хаос самостоятельно преобразовался в порядок. То есть Бог не участвует в происходящих процессах, им были заложены принципы, опираясь на которые всё приняло упорядоченный вид. Поэтому божественное вмешательство не требуется, оно итак сообщено в достаточном для нашего мира количестве. Принципы таковы: каждая частица материи пребывает в неизменном состоянии до столкновения с другой частицей, при столкновении одна частица сообщает другой часть своего движения, все частицы стремятся двигаться по прямой линии, вынужденные при этом двигаться по кривой.
Существуют ли мельчайшие частицы? Декарт в этом уверен. С помощью существования мельчайших частиц он объясняет ряд явлений: горение дерева, испарение воды, разрушение зданий. Таковых же взглядов придерживались философы Древнего Мира. Декарт пытается переосмыслить их воззрения, хотя ничего тому не способствует. За минувшие тысячелетия человеческая мысль не так далеко продвинулась, чтобы говорить о ней точно такими же словами. Пытаясь обосновать мельчайшие частницы, Декарт опровергает одно из собственных Правил для руководства ума, берясь за то, для изучения чего не созданы требуемые условия.
Согласно предположению Декарта, мельчайшие частицы наполняют наш мир. Позже Декарт уподобит мир единой субстанции, прозванной им Богом. Получилось так, будто всё пространство занимает единственная субстанция. И так как не осталось места для пустоты, необходимо говорить о множестве частиц. Эти частицы успели изменить свой вид, острые края обломались от постоянных столкновений, ныне частицы в той или иной мере являются составной частью каждой определённой точки пространства, вследствие чего жидкое является жидким, а твёрдое твёрдым, что согласуется с трудно понимаемым явлением — тяжестью — заставляющим тела притягиваться друг к другу, только с разным усилием.
Частицы постоянно пребывают в движении. Состояние покоя в той же мере является движением, так как абсолютного состояния покоя не существует. И поскольку третий принцип заложенных Богом закономерностей побуждает частицы двигаться по кругу, Декарт считает важным говорить о единственно возможном движении всего в мире, о круговом. Одно всегда вытесняет другое, уже по данной причине не остаётся места для пустоты. Круговое движение следует понимать буквально. Если одна из частиц исходит из определённого места в начале движения, то к окончанию кругового цикла эта частица займёт прежнее место. Но твёрдой уверенности в отсутствии пустоты у Декарта нет, он допускает возможность её существования.
Как в дальнейшем поступить с взятым для примера миром? Декарт уверяет, он отличен от земного. Нет в нём ничего похожего на наш. Последующие поколения понимают, таким ходом мыслей Декарт желал обмануть служителей церкви, представив их вниманию полностью выдуманную реальность. Как иным образом он мог предполагать существование множества одновременно существующих центров, вокруг которых что-то вращается, если церковь настаивала на геоцентрической модели Вселенной? В нафантазированной реальности Декарта нет определяющей точки бытия, являющейся центром сущего. Ныне ясно, Декарт склонялся к гелиоцентрической теории, описывая будто бы придуманный мир, а подразумевая земной.
Отведя глаза карателей, умаслив их слух небылицами, после Декарт не опасался делиться с бумагой мыслями о происхождении комет, о планетах, о Земле и Луне, о тяжести, о морских приливах и отливах, о свете и его свойствах, о небе нового мира, удивительно напоминающим наше. В этом же трактате Декарт поделился мыслями о теории вихрей, расширив понимание предположения о кругообразном движении всего.
Автор: Константин Трунин