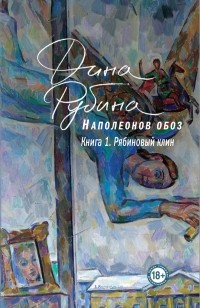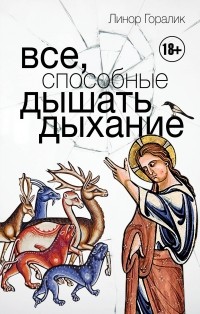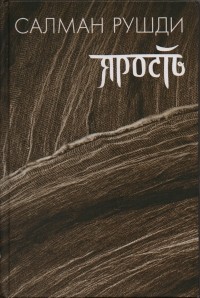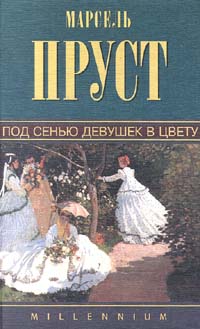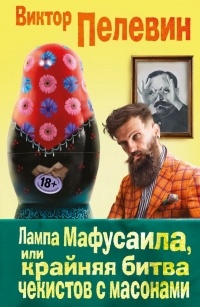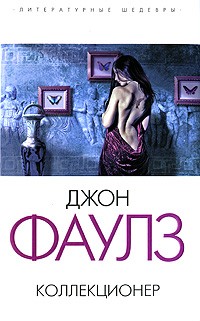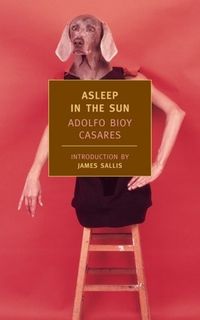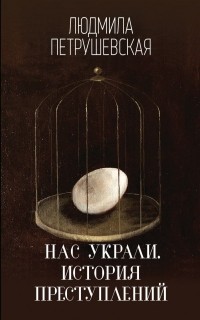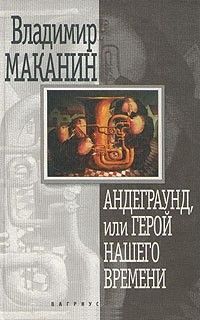Дина Рубина «Белые лошади» (2019)
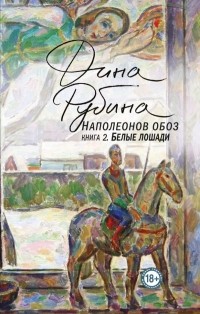
Цикл «Наполеонов обоз» | Книга №2
Как зудело плечо, как размахивалась рука, так и продолжило зудеть, продолжила размахиваться. Ничего не поменялось в изложении Дины Рубиной. Всё тот же стиль, всё же должный потоком сознания именоваться. Ведь не может автор выстроить ровное повествование, только о том и рассказывая, за что взглядом хватается. Вот увидит его глаз явление важное, сразу старается найти применение. Почудится конь, или не почудится, ему сразу найдётся на страницах произведения применение. Видимо, о том и подумала Дина Рубина, начав сказывать второе повествование из задуманной трилогии про наследие французской армии. Отчего-то это про цыган подумать заставило. Так уж захотелось Дине Рубиной.
Каких страстей стоит ожидать читателю? Будут страсти обязательно. Убийство ли, либо самоубийство: не важное обстоятельство. Замыслила замылить читателю взор Дина Рубина, только тем и занимаясь на страницах повествования. О весёлом скажет она, о грустном поведает, толком ничего не рассказывая. Таков он – поток сознания, всегда тяжёлый для восприятия. И пусть не юлят те, кто говорит, будто понравилось, словно все авторские изыскания им по нраву пришлись: обман легко уличается, уважение к таким людям стремительно падает.
Впору сказать, уже критиков не осуждая за увлечение постыдное, что допускается чтение поверхностное, ибо не следует стараться глубоко копать там, где колодца не выкопаешь. Известно читателю, насколько некоторые критики привыкли скудно знакомиться с обозреваемым произведением, в лучшем случае половину читая, либо первую и последнюю страницу, а то и обложкой ограничиваясь, заходясь речью после хвалебною или хулящею, в зависимости от цели преследуемой. Но есть критики, от корки до корки читающие, с трудом текст понимающие, они-то и есть самые страдающие, кто вынужден, по профессии или по призванию, сносить авторское стремление к слов выражению, ещё и силы находя, чтобы своё мнение о прочитанном высказать.
Пусть не сказано читателю, каковым произведением является вторая книга в трилогии в исполнении Дины Рубиной, из того не следует делать выводов. Должно быть понятно наиглавнейшее наблюдение, которое понимается без дополнительного напоминания. И читатель усвоил его. Ну, а если кому роман “Белые лошади” придётся по душе, то и такое случается. Потому литература и существует разная, всегда находятся ценители, способные разглядеть им интересное, когда другим может не нравиться.
А если на короткое мгновение задуматься, чему читатель станет внимать? Заметит, насколько велико у автора стремление сочетать разное, чему редко место в жизни находится. Говоря о чём-то, можно не только взглядом находить новое, но и позволять развиваться событиям, должным отстоять дальше, нежели автору кажется нужным. Этаким образом, почему бы и нет, можно до самого первого предка всех действующих лиц дойти – до Адама. Почему бы с него не начинать повествования? Да решила Дина Рубина ограничиться периодом нашествия Наполеона на Россию, всячески стараясь теперь подбивать под это повествование.
Читатель продолжает видеть лошадей, особо не придавая значения прочему. На обложке ли лошади, или на небе в облаках оных разглядел автор, или действительно цыганский табор оказал какое-то влияние. Отставим всё это в сторону, найти нужно силы для третьей книги из цикла Дины Рубиной.
У кого сохраняется интерес к повествованию, кто с прежней силой надеется, тот должен обрести ему нужное, так как прочие ограничиться предпочли бы произведением, ставшим для цикла первым, не задумываясь продолжать чтения. Бывает и такое, что бросишь начинание, не узнав, чего добровольно лишаешься.
Автор: Константин Трунин