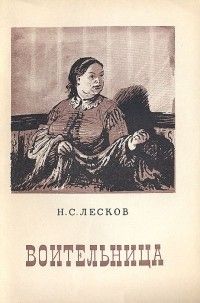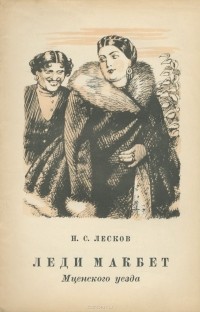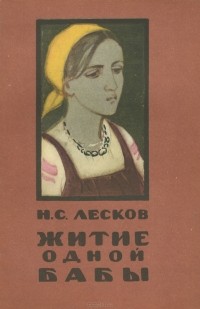Денис Фонвизин «Торг семи муз», «Сидней Силли», «Иосиф» (1762-69)
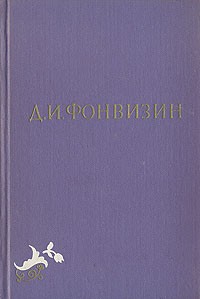
Переводы Фонвизина имели малое значение для русскоязычного читателя. Денис выбирал не тот литературный продукт, который мог быть востребованным. Трудно найти информацию не только о произведениях, но и об их авторах. Не скажешь, какой именно Кригер написал «Торг семи муз», совсем ничего неизвестно об авторе «Сиднея Силли», почти никак не воспринимается творчество Поля Битобе — важного деятеля, переведшего для европейцев героические эпосы Гомера. Само содержание произведений данных писателей ставит под сомнение полезность их вклада в беллетристику.
С баснями Гольберга ситуация обстояла иначе. Хоть Гольберг и поныне никак не воспринимается ухом русскоязычного читателя. Предложенный набор из 225 басен мог иметь важное значение для зарождения в России интереса к коротким завуалированным поучительным историям. На этом фоне не получается в должной мере воспринимать купеческий вояж посланниц Юпитера, в виду отсутствия явного нравственного смысла. Фонвизин решил показать читателю, каким спросом пользуется среди людей приобретение чести. Занимательно и в чём-то полезно, но форма подачи материала не та. Тут требовалась не сухая проза, а нечто в сопровождении музыки.
Про «Сиднея Силли» лишний раз лучше не говорить. Эта английская повесть несёт разрушительный вклад в понимание деятельности Фонвизина. Денис был молод и брался за ему доступное. Лишь при таком подходе получается оправдать его стремления. Остаётся пожурить составителей собрания сочинений. Сам Фонвизин не имел возможности предоставить информацию для итога своей деятельности. Когда собственные работы игнорировались обществом, оставалось браться за нечто нейтральное. Поэтому приходилось растрачивать силы.
Значительнее прочих выглядит перевод Фонвизиным «Иосифа» Поля Битобе — крупного произведения, рассказывающего о библейских временах. Следует оговориться, или Битобе так писал, либо Фонвизин усложнил понимание текста. Читателю приходится тонуть в словах, не понимая главного — о каком именно Иосифе рассказывает автор. Осознание приходит посредством вчитывания, но сомнения продолжают оставаться. Не разойдутся воды Битобе перед читателем, как перед Моисеем. Не будут изгнаны они, как перед Иисусом.
Причина сложного понимания «Иосифа» — форма подачи. У Битобе это произведение обозначается поэмой в прозе. Следовательно, Фонвизин стремился к тому же. Читатель, знающий о возникающих затруднениях при знакомстве с античной стихотворной литературой, испытает подобное и при знакомстве с «Иосифом». О ритмике говорить не приходится: текст доступен читателю в той же прозе, написанной под влиянием произведений авторов Древнего Мира.
Битобе не продвигал повествование, продолжая описывать необходимые ему сцены. Действие не развивалось, и читатель продолжал гадать, кому более уделять внимание. Уж не тому ли персонажу, под которым желается видеть Моисея? Или тому, кого так и хочется заподозрить в качестве несостоявшегося отца Христа? Поэтому предлагается оставить попытки понять произведение, учитывая и то, что подобное наследие Фонвизина почти никого не интересует.
Подводить итоги рано. Фонвизин продолжал творить, не ограничиваясь переводом литературы. Он постоянно сталкивался с необходимость думать над поступками, поскольку не приветствовалось открытое выражение мыслей. Оставалось искать тех людей, чьи слова уже прозвучали, чтобы их сделать достоянием русскоязычного читателя. Переводчика редко ловят за руку, чем необходимо пользоваться, снимая таким образом любую ответственность за собственные мысли в тексте, на языке оригинала отсутствующие. Без дополнительных пояснений или целенаправленного поиска несоответствий — тяжесть за слова ляжет на плечи не подозревающего о том автора.
Таков ранний Денис Фонвизин. Всё у него впереди, в том числе и заграничные путешествия. Узнать предстоит о многом, как и расцвести слогу.
Автор: Константин Трунин