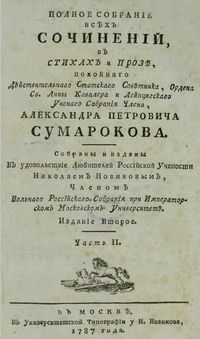Александр Пушкин «Евгений Онегин» (1825-32)
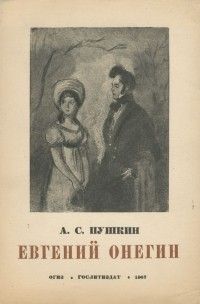
Под небом сумрачным России, африканской страсти жаром пылая, о нравах общества писал поэт, их смело осуждая. Он взялся говорить, тому не устыдившись — обвиняющих уняв, заранее оговорившись: не он герой романа, клеветать не смейте, на себя смотрите, должное принять умейте. Сказать поэт решил о молодом повесе, подобных коему не счесть, посему стихи о нём полагается принимать с благосклонностью за лесть. Евгений Онегин — имя франтоватому юнцу, о его деяниях слагал поэт за строкой строку. Но не о нём одном — о себе поболее сказал поэт: о развязных помыслах, присущих ему во цвете данных свыше лет. Потому, читатель, общество во времена Николая гнило, поверь, коли Пушкин светлое чувство обратил в ничто.
Любовь! Какая блажь. Любить — не важное желание. Тридцатые годы — смена эпох, иное у молодых почитание. Девичья краса и девушек круг не пленит, то в былое ушло, время мужчин-краснобаев в двери стучит. Откройте Пушкину, пусть скажет о девицах, расскажет о ножках их, не разбираясь в чужих лицах. Собьётся он, забыв о чём сначала говорил, после вспомнит, продолжив, будто кто его остановил. Что до повествования, оно всплывает кое-где, когда поэт вспоминает — взялся он говорить не о себе. Итак, читатель, Онегин снова во главе сюжета, он переменчив, запомни до конца повествования это.
Сегодня мнится красота одна, на завтра красота другая. Решать положено теперь. Но как решать, не зная? Не красота, всё завтра обращается в другое. Поступок нынешний, спустя годы, обращается в смешное. Нравы общества, как их сейчас не осуждай, смирись и без возражений принимай. Некогда мужчины искали встречи, после дамы пребывали в поисках причин, спустя десятилетие опять иначе — мужчинам снова искать встречу самим. Заложником сего даже Пушкин оказался, зря над прежними порядками смеялся.
Меняются вкусы у людей, так им кажется приятней, кто вчера был на слуху, того сегодня нет отвратней. Онегину не мил его умерший дядя, презренна в девушке краса, он это знает: он молод. Молодым — всё навсегда. Как бы не казалось поведение Онегина зазорным, не стоит быть таким притворным. Вокруг онегиных не счесть — о том ранее упоминание в первом абзаце сего текста есть. Меняется всё в мире, чтобы к прежнему началу вернуться, вот и страдает человек, позволяя в который раз обмануться.
Зачем тогда гадания и вещие сны? В них будущее сокрыто? Пойми, читатель, для человечества предстоящее — дырявое корыто. Понятно всякому, человека краток век. Ему мнится такое — чему тысячи лет. Не он один — все через подобное прошли, и смерть свою в конце жизни обрели. О частностях осталось судить каждому из нас, как Пушкин, описавший эпизод, как говорится, без прикрас. Показан фрагмент былого, нравы тех дней, Онегин в строках — первый злодей. Злодеи меньшего ранга — все прочие. Тут бы пора и поставить пространное многоточие.
Ничего не сказано о романе в стихах. Кто так решил? Встаньте из-за парт, обозначьтесь в рядах! Скажите, стоит за творца судить, прав он или нет? Творцу судить о том, таков должен был прозвучать ответ. Главное озвучено: детали — человека мелкое суждение, решившего с другими обсудить поэта стихотворение. О творчестве возвышенного мнения следует быть, пожалуй, это стоит подрастающему поколению навсегда заучить. Но если творец — человек, и если писал о простом, значит ему хотелось говорить и о том. Прочее — эфемерный поток бытия. И тут как раз место для многоточия.
Автор: Константин Трунин