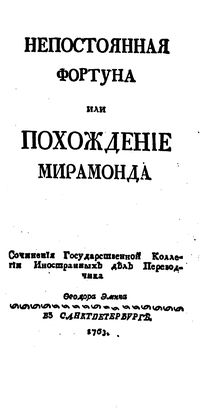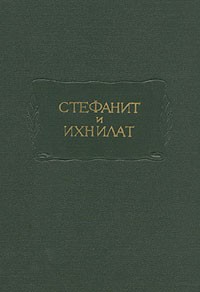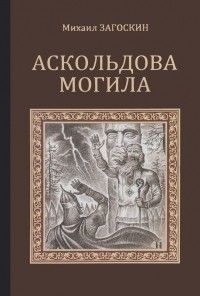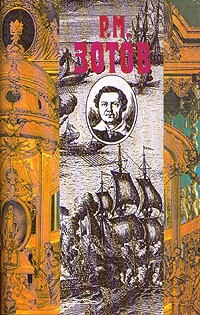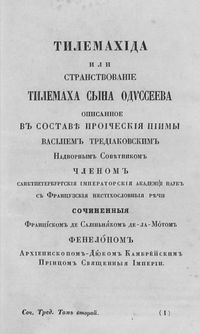Фаддей Булгарин «Предисловие ко второму изданию» (1830)
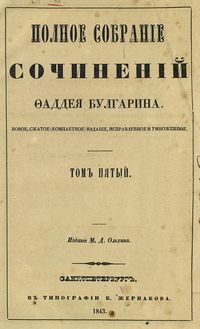
Сатира — это завуалированное отражение правды? Отнюдь, Булгарин так не считал. Не видел он в иносказании ничего близкого к действительности. Может хочется видеть правду в домыслах, тогда как до реальности в сатире не хватает самого главного — прямого отношения к имеющему место быть. Если брать в качестве примера басни, то сколько в них найдётся правдивых моментов? Наоборот, в баснях отражаются чаяния, которых не может существовать, поскольку они противны происходящим в нашей жизни процессам. Может в иных мирах, где правда и справедливость способны иметь определяющее значение, там найдётся место и прямому пониманию басенных сюжетов. Посему, коли о баснях пришлось говорить, Фаддей посетовал в сторону Крылова, укорив того в излишней подверженности сатире, никак другим образом не понимая граней таланта известного на всю Россию баснописца.
Помимо Крылова по басням известен Фонвизин, пусть и в качестве переводчика. И к нему у Булгарина имеются претензии. Фаддей просто не желал принять людское стремление находить отдушину хоть в чём-то. Нет, сатирой для Булгарина являлось неверное трактование обыденности. Для примера он предлагает суждения иностранцев, для пущей убедительности, касательно русских. Довольно забавно читать такое, о чём и помыслить прежде не мог. А это, между прочим, точка зрения людей из-за рубежа, чаще всего серьёзно ими воспринимаемая. Для нас же то мнение является сатирой. Собственно, точно такой же сатирой иностранцы считают мнение о себе, редко согласные с приписываемыми им качествами.
Фаддей не стоял на позициях необходимости извращать понимание действительности. Сообщать нужно только проверенную информацию, желательно окружая её наиболее правдоподобными обстоятельствами. Тут читатель ему должен возразить, так как беллетристы не могут обходиться без выдуманных сюжетных линий. Да и сам Булгарин некогда придерживался вымыслов, которыми он и далее станет наполнять страницы художественных произведений. Без вымысла не может существовать литературы. Но сатира — это всё-таки какая-никакая правда, только подаваемая под видом истины, оной на самом деле не являясь. Скорее следует говорить о своеобразном понимании жизни, то есть об утрировании.
Есть среди статей Булгарина работа под названием «Истина и сочинитель», она также служила предисловием. В качестве диалога читателю представлены рассуждения о ремесле писателя, стремящегося познать истину, сообщив её другим. Истина оказалась беззащитной перед всеми, не способная постоять за себя. Она всегда покрыта наиболее желаемым писателям покровом, тогда как редким мужам от науки она предстаёт в естественном виде (сугубо филологи и математики могут её зреть таковую). Главным советом истины сочинителю стал призыв умалчивать там, где её образ может оказаться разрушенным, а лучше облачать истину в угодный самим писателям покров. Но сама истина прозрачна и не может быть заметна глазу. Нельзя увидеть того, что не имеет примесей, ибо всякое напластование извращает истину. И потому писателям ничего другого не остаётся, как выдавать за истину её покров.
Из этого следует: говоришь ты правду прямо или пытаешь её сообщить намёками, сообщить действительное положение дел никогда не сможешь. Для этого потребуется подобрать слова, которые изначально являются лживыми. Настоящая правда заключается в молчании. Какими речами не забавляйся, всегда найдутся те, для кого истина сокрыта под иным покровом, из-за чего тебя обвинят во лжи. Тогда останется уподобиться сочинителю сатиры, тем способствуя иносказательному пониманию истины, специально помещённой под покров, чтобы каждый читатель самостоятельно смог увидеть имеющее место быть.
Булгарин всё же подобного не признавал. Его правда оказывалась далёкой от сатиры, именно потому всякий мог обвинить его в предвзятом отношении к настоящему. Но как не говори — всё это есть и останется проблемой философского толка.
Автор: Константин Трунин