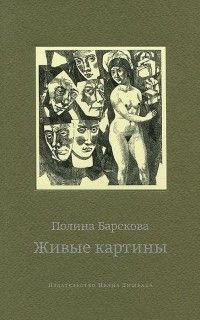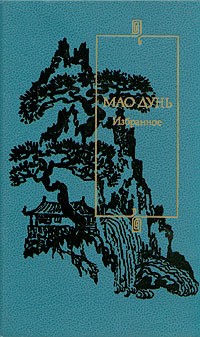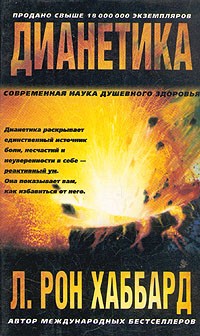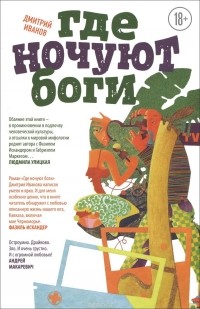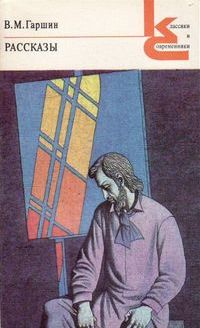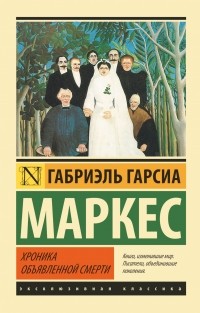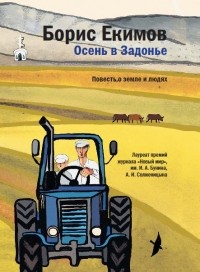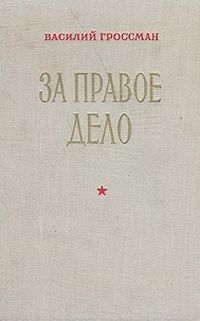Песнь о Роланде (XII век)
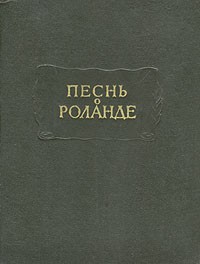
Друзья, «Песнь о Роланде» у меня для вас припасена. О славе ли песня сложена сия? Кто в ней герой и каковы его страданья? Как соотносятся с историей подобные преданья? Отсель ведут французы счёт годам? По праву сильных, дав отпор врагам? Великий Карл — правитель тех времён, по праву рождения царствовать начал он, отправил армию за край родной земли, там многие из храбрых полегли. До нас дошли свидетельства тех дней, известны имена смелейших из людей, но правды в этом может и не быть, заслуги прошлого всегда любили возносить. Уж коли шли отцы на бой в пору тяжёлых лет, то и сыны пойдут — иного выбора, пожалуй, нет. Никто не вспомнит после о войне иначе, чем о героях, чьи заслуги слаще. Сиропная отвага и приторная честь — из них слагается в народе песнь. А что до правды… правду не узнать: в хмелю жонглёров каждый мог героем стать. А ежели Роланд сказания достоин, о нём и речь, решим, какой он воин. Аой!
Великий Карл, за двадцать лет до императорских регалий, бил саксов всюду, где его не ждали. Он к Папе в Рим с почтением ходил и королевство лангобардов покорил. И снова саксов всюду бил, пока по зову в Сарагосу не отбыл. Испания тогда под гнётом мусульман стонала, их дрязги все она познала. Как прежде ведала о дрязгах готов, теперь увязла в чуждой веры ей заботах. Про Пуатье забыли мусульмане, зачем иначе христиан позвали? Великий Карл убыл с неисчислимой ратью в путь, но от Сарагосы пришлось обратно повернуть. От сих и зачинается роландово сказанье, про гибель яркую повествованье. Аой!
В трактирах разное жонглёры ведали о деле том, правдиво излагали и врали, разумеется, притом. События былого искажать стремился всяк, и верить в писаное будет лишь простак. Оставим ратной сечи песнь на совесть им, заняться лучше нам другим. Пусть в дошедшем до потомков варианте много похвальбы, читатель внемлет суть свершившейся канвы. Роланд был предан, если предан был, он отомстил, погибелью других достойно опочил. О сём и сказывали людям балагуры, рассказывая живо, как с натуры. Пред взором образ мусульман вставал, их христианский воин побивал, вставал и образ хитрецов-друзей, на гибель отправлявших лучших из людей. В сём эпосе рождалась вера всех потомков, чьи кони шли на бой в доспехах звонких, они сражались и несли свой крест в Иерусалим, в них дух Роланда был непоколебим. Аой!
История иная в настоящем, она не связана с былым. Все представленья о деянье вящем, рушими объяснением простым. Роланд — герой, ему на утешенье, минуя Ронсеваль, название ущелья, был встречен вражескую силой, казалось мусульман, и был смертельно ранен там, но басками — и в этом весь обман. Тот, за кого стяжали славу рыцари потом, чьё имя принимали за набатный звон, кто побуждал их подвиги свершать, а тело, душу, сердце — трепетать, не мог оставить бренный мир и умереть без обоснованных тому причин. Аой!
Века минули. Вымарана память. Кому сегодня лучше памятник поставить? Забыто прошлое. Иные времена. Найти героев не проблема — их ведь тьма. И пусть заслуги мнимы, пусть пусты. Перекричать не сможешь глас толпы. Народ поверит, и тогда… родит героя навсегда. Народу нужно кем-то жить, и это никогда не изменить. Аой!
Автор: Константин Трунин