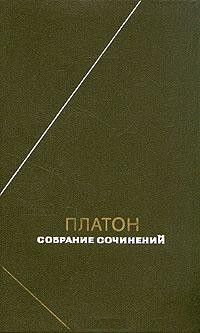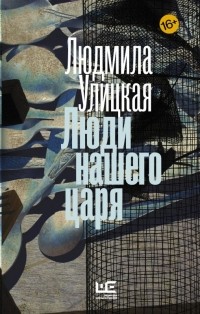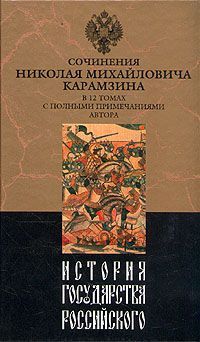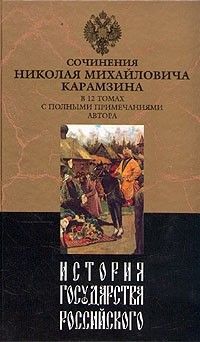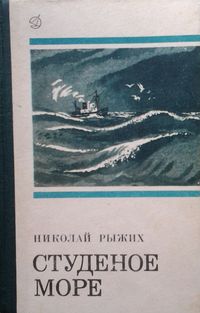Нестор «Повесть временных лет» (начало XII века)
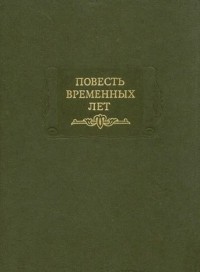
Время рассудит, но время не рассуждает: ему внушают — оно отражает. Как записано человеком, тому вера будет. И ежели сказал один, другой повторит. Если не повторит, то исказит на лад свой. И тогда будет время иным, и станут прежде жившие иными, и ныне живущий станет иным, ибо не дано знать никому о минувшем. Было ранее, в житие Нестора, что летописец, хроника Георгия Амартола, греческого византийца. По той хронике «Повесть временных лет» писана, добрую часть прошлого к истории Руси тем приписав. Прочее, Амартолу неизвестное, взято по народным преданиям, из уст на писчее положено. Другое же, Нестором не виденное, со слов свидетелей записано. Чему сам очевидцем был, то сухо изложил, без фантазии.
Есть летописи поздние, по ним текст «Повести временных лет» восстановлен стал. К чему в дошедшем до нас Нестор руку приложил, в Лету то кануло знание. Забвение окутало человечество — человеку не вырваться. Сложены свидетельства разные, им верить предлагается. Прошлое привередливо — бери такое, пока не оказалось невеждами переписанным. А может уже переписано? Как Георгий Амартол о Руси сказывал, так Нестор ему поддакивал. А откуда византиец греческий о том ведал? И то в Лету кануло.
С библейских времён к Руси шла история. От сыновей Ноевых до дней бурных от распрей князей, в крови междоусобной утопающих. Для того ли сто лет ковчег строился, чтобы снова воды обрушились? Для того ли Нестор «Повесть временных лет писал», дабы разума дать современникам? И будет кровь литься: хорошо страницы от крови не липкие. Али липкие были, ибо кровью Нестора писаны? Потому переписаны, ибо смрадно вдыхать крови запах.
Михаил III из Аморейской династии — лицо важное, государственное. Он первым столкнулся с племенным Руси объединением. Пристали славяне к Константинополю, тем дань потребовав. Внял им Михаил, и пошла слава о земле русской, но без дани желаемой. Прогремело имя Руси, стала Русь славиться. Али не Руси имя ещё, кому бы то важно теперь было. Воззвали к людям с севера славяне, видя силу людей с севера, поход на Византию для них организовавших, и пришли люди с севера, и пошла государственность на Руси, о чём и принялся Нестор дальше сказывать, на хронику Амартола поглядывая.
Задумалась крепко Византия, как соседа грозного усмирить. Думали умы лучшие, придумали им известное. Но не туда посланников направили, пошли те в земли Моравские, благочестием известные братья солунские, Кириллом и Мефодием впоследствии при пострижении в монахи названные. От князей моравских князьям русским пришло известие, алфавитом неведомым писанное. Неведомым ли? Всё ли Нестором правильно сказано? Не ведал он разве, что один из братьев солунских, в бытность к хазарам хождения, в Корсуни с алфавитом прежде сталкивавшийся и книги важные для христианства на славянском языке читывал? Да не признается Нестор, ибо славы Владимир Креститель должен в продолжении удостоиться.
Жизнь сама собою складывалась. Ходил Олег на Византию и иные князья ходили, дань брали и радовались дани они. Князья иные дань смертью собственной брали, из жадности принимая её, не в силах при жизни вместить им данное. О том Нестор сказывал, сказания сказками оборачивая. Ложь ли сказы те, али намёк какой? Умирали князья, чаще смертью лютою. Не брала людей жизнь мирная, распри рождая вековечные.
Владимир Креститель — лицо важное, Русью владевшее. По воле своей, али византийцы управу нашли, нрав обуздав славян необузданных? Накинули узду на русских, от языческих идолов отвадив их, тем побудив к смирению. В красках то смирение описано, Нестору на радость. Не видел летописец в том горя, принял с почестью, как хронику Георгия Амартола, поверив словам греческим, не придав их сомнению.
Полетели головы идолов, дабы бесов изгнать внутренних. И принялась Русь изгонять бесов тех из каждого русского. И чем больше бесов изгоняли они, тем больше бесов поселялось в людях праведных, того жаждавших. Видели то славяне и верили — борьбе с бесами они были свидетели. Каждый судит о той борьбе пусть по совести, не стоит будить дух сил неправедных.
И полилась на Руси кровь обильная. Сыны княжеские убивать друг друга начали. Возводили напраслину, сатаною на искушение побуждаемые. Видел в том Нестор дело греховное, воспевая павших за веру праведную. Аки агнцы шли на заклание братья младшие, складывая головы за почитание братьев старших. Тяжело говорить о деле прошлом, но надо, ибо знается, какой бедой обернётся для Руси сия борьба родственная.
Основан будет в пещере монастырь Антонием, во спасение Руси, ибо праведно. И станет там игуменом после Феодосий. И будет там трудиться Нестор. И создаст он «Повесть временных лет». И станет зачинателем русской истории. И быть тому.
Автор: Константин Трунин