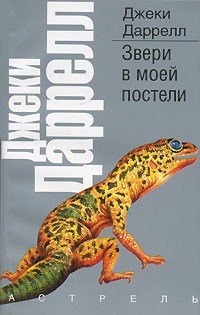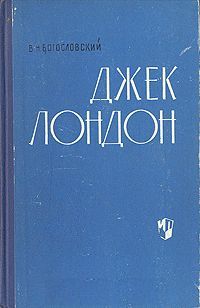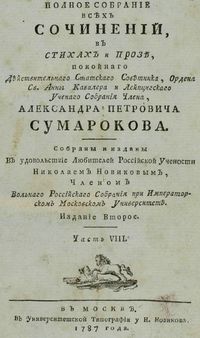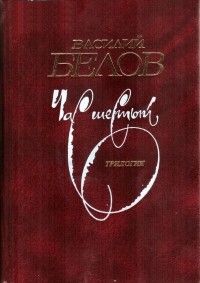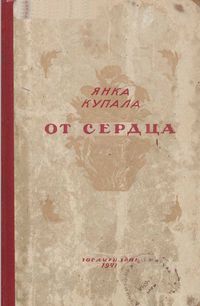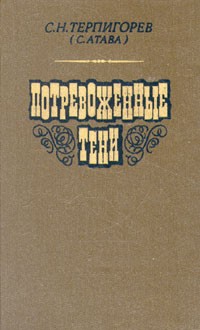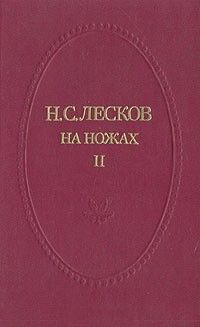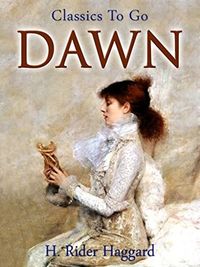Георгий Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество» (1933-36)
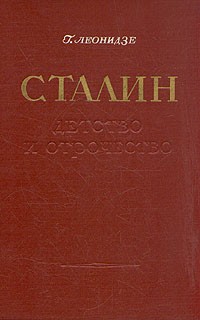
О товарище Сталине как рассказать? Как поэму о нём написать? Большую поэму, на зависть потомкам! Уж они-то поймут, какую страну Иосиф построил на царских обломках. Он — Прометей, что у богов божественное отобрал. Он сильной рукой с пролетарским духом Союз Советский объял. За то хвалы достоин, как считал его современник. Не Прометей — он, но не сиделец и не гордый отшельник. Он — Сталин, чью жизнь должны поэты воспевать. Леонидзе решил одним из первых про Иосифа на грузинском писать. Рождалась поэма, взяв начало с древнейших времён, но не доведена до конца — до отказа от церковной стези лишь прочтём. Не мог Сталин продолжать учиться там, где не позволяют обращаться к богам, где за бога почитался над Россией поставленный царь. Такая религия — на замок запертый ларь. Потому восстал Сталин, о чём Леонидзе уже не стремился сообщать. Может повинен тому тридцать седьмой год? Не будем стремиться узнать.
Кавказ — это горы: и о горах начинается сказ потому. Надо было читателя настроить, сообщив, что к чему. До рождения Сталина пройти многим векам, покажет Леонидзе всё, о чём ведал прежде сам. Прометей промелькнёт — из древних времён предание. Орды завоевателей пройдут — они дополнят сказание. Македонский, Чингисхан — словно для Кавказа никак не туман. Сам Кавказ — это край народов, издревле тут обитающих. Гордых народов — в войнах себя истязающих. И есть грузинский народ — его история сложна. В редкие моменты прошлого Грузия — одна страна. Картли и Кахети — вот соперники из седых годин. Вражды их плодом стал Сталин — Грузии сын. Когда речь Леонидзе повёл о нём, благодатью пришедший на Землю стал окружён.
Радость явилась. Рождения ждали! Иосифом ребёнка родители назвали. Отец счастьем округу заразил, всякий его поздравлять подходил. Счастлива мать! И счастлива родня. Пополнилась ребёнком желанным семья. Несли дары, рядом с младенцем располагая, к каждому поднесению ожидания прилагая. Одна вещь — стального характера будет юнец. Другая — пастырем станет, словно пастух средь овец. Третья — за доброту душевных порывов: поможет всякому он в беде. Ещё одна вещь, чтобы самому не оказаться в нужде. Такова традиция: будет думать читатель. Обряду положено свершиться. Верно ведь то, что предначертанному всё равно суждено осуществиться.
Мальчик полюбит чтение, узнает о поступках Кобы из книг. Тогда он поймёт — желает сам Кобой стать, хотя бы на миг. С той поры, он — Коба, иначе не зовите. В поступках Иосифа никого иного, кроме Кобы не ищите. Он примет роль, которую мог и не принимать. Отныне и всегда, он тот, кем назовётся для других. Не Джугашвили он — отзвук фамилии этой быстро затих. Будет менять имена, о чём должно быть известно из дальнейших событий. Жаль, Леонидзе не дошёл до тех открытий. Поступит Иосиф в семинарию, и сам решит порвать с учёбой своей, ведь не может человек ощущать оторванность от верных его идеалам людей. Нужно бороться, ещё лучше — свершать. Почему же дальше не стал Леонидзе слагать?
Длиннотами полнится о Сталине поэма. Красивой строчкой льётся стих. Как если ходит по морю трирема, свой срок давно отжив. Сменились корабли, прошлое в былом: теперь важным иное стало, о чём, увы, не прочтём. И Сталин был ребёнком, и он обретал черты в силу сложившихся для того причин. Что же, о нём следует писать, особенно когда он всему сам стал властелин.
Автор: Константин Трунин