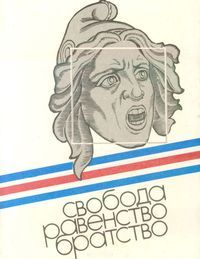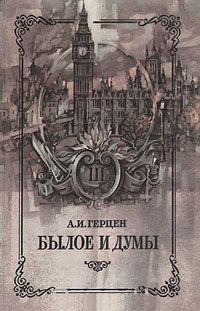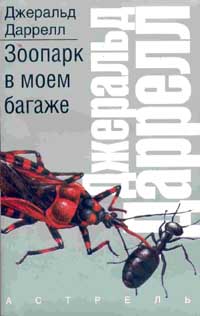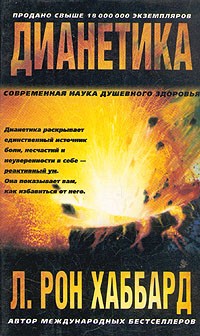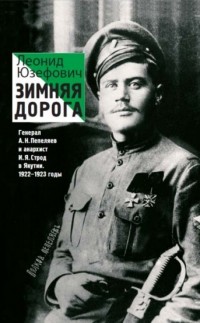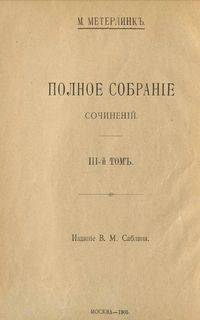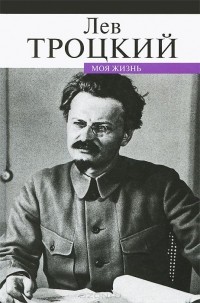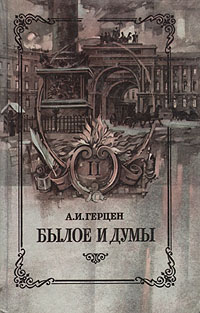Иммануил Кант «Мысли об истинной оценке живых сил» (1749)
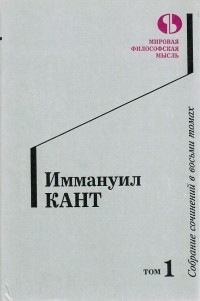
Не следует уподобляться стаду и идти по проторенной дороге. Нужно искать собственный путь, даже окажись тот ошибочным. Так думал молодой Иммануил Кант. Первые труды он не подписывал, много позже отмечая, как сильно его идеи повлияли на других мыслителей, высказывавших сходные предположения на устройство бытия. Кант строил повествование в форме рассуждений. Он предполагал, доказывал словами, приводил формулы, либо старался придти к истине путём логического осмысления. Часть идей Канта не утратила значения и в наши дни, порой оставаясь доминирующей теорией. Объяснением этого служит доказательная база предшественников Иммануила, позволившая ему опираться на уже ему известное, дабы отшлифовать чужие мысли и, переосмыслив их, придти к собственным умозаключениям.
Важная роль в теориях Канта отводится божественной сущности. Иммануил верит в высший разум и будет пытаться доказать его существование. Прочим же следует усвоить идеи Канта в качестве возможных быть, пока не будет доказано обратное. Есть в пространстве исходная точка, вокруг которой всё вращается. На её основе построены остальные элементы пространства, в том числе Млечный путь и Солнечная система. Кант последовательно покажет, почему это именно так.
В 1749 году Иммануил написал труд «Мысли об истинной оценке живых сил». Согласно его доводам, всё в пространстве располагается относительно чего-то, сообщая силу или принимая её извне. Каждое тело обладает сущностной силой (действующей и активной) относительно других тел во времени и пространстве. Это касается всего, вплоть до души. Каким образом душа способна оказывать движущую силу на тело? В таком случае речь должна идти об активной силе. Кант пришёл к выводу, что существовать могут всевозможные вещи, даже нигде не находясь.
Соответственно, говорить можно о существовании всего, в том числе и о множестве миров. Кант был склонен считать Бога творцом в движении, чья активность не позволяет ему останавливаться. Это должно быть верным уже в силу необходимости взаимодействия миров друг на друга, иначе теория Иммануила не будет применима к действительности. Отсюда проистекает сила притяжения, как одна из движущих сил. Отсюда же — выработка Кантом идеи трёхмерности пространства, довольно спорной для него теории, вступающей в противоречие с пониманием устройства космического пространства, по своей сути более плоского, нежели трёхмерного. И всё-таки пространство трёхмерно. Теория множественности миров тому в подтверждение.
К рассуждениям о живой силе Канта подтолкнули работы Лейбница. Иммануил посчитал, что мало соглашаться или опровергать, нужно самому прилагать усилия для дополнительного осмысления. В любом ином случае, заблуждения, порождённые неверным ходом мыслей, долгое время будут превалирующими и влиять на суждения последователей. Кант и сам категоричен в предположениях, неизменно считая проведённое им исследование вопроса исчерпанным, если подошло время подводить выводы под ранее сказанным.
Мало предполагать, нужно допускать разные подходы к пониманию. Тот же Лейбниц, считает Кант, мыслил опираясь на труды Декарта. Значит и труды Канта послужат потомкам для развития мысли. Сам Иммануил критически относится к математике, считая свойственное ей свойственным только ей, поскольку математические законы, как бы точно они не соотносились с действительностью, служат преимущественно для тренировки логики, и более разумного им объяснения не существует. Поэтому ложное в математике не является ложным вообще.
В ранних выводах об устройстве вселенной у молодого Канта обнаруживаются предпосылки для углубления мыслей и закладки фундаментальных теорий. Позже это станет более явным, когда Иммануил примется за размышления об устройстве Вселенной. Космогония станет для Канта следующим этапом развития.
Автор: Константин Трунин