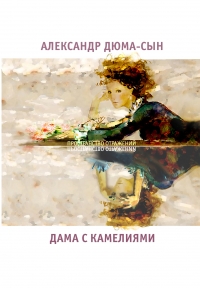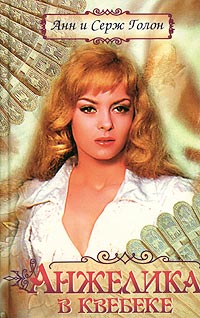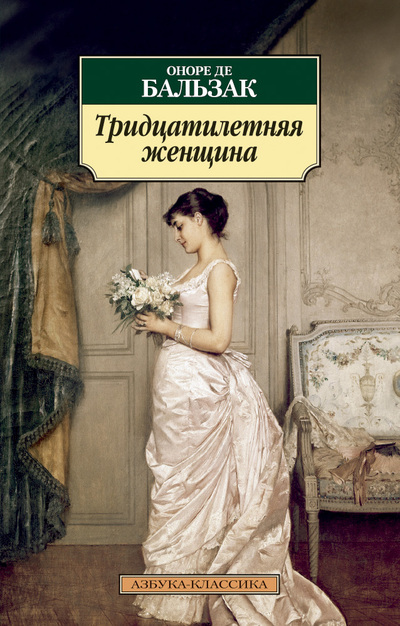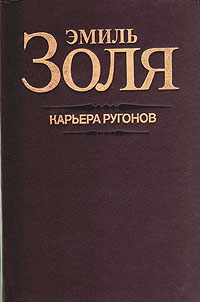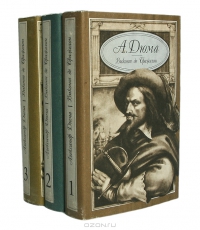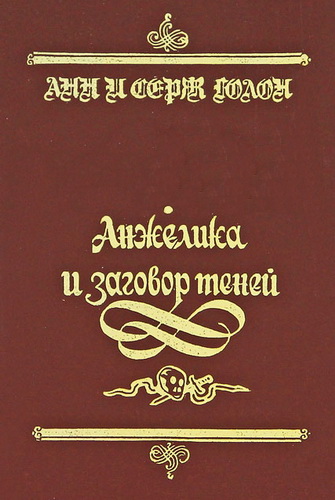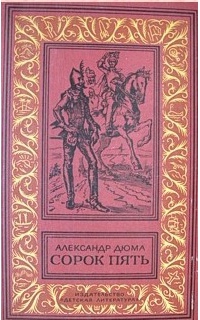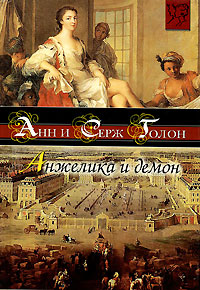Эмиль Золя «Добыча» (1872)

Цикл «Ругон-Маккары» | Книга №2
Писатель всегда прав — это аксиома. Ему подвластны слова, влияющие на других людей. Под его пером может быть создана империя честности, либо государство позора. Всё зависит от влияющих на писателя факторов. Если он задумает показать естественную сторону человеческой сущности, то обязательно будет стоять перед выбором — взять за основу обездоленных или отдать предпочтение предприимчивым людям — от этого зависит многое. Эмиль Золя решил для себя однозначно: ему требовалось показать чувство пожирающей жадности. С точки зрения происходящих в «Добыче» событий — всё очень обыденно и укладывается в понимание типичных процессов. Золя не отдалялся от основной темы, концентрируя внимание на всем доступной возможности разбогатеть. Другие писатели могли себя позиционировать защитниками социально незащищённых слоёв населения, взбудораживая отрицательные эмоции. «Добыча» стоит над всем этим, защищая господствующий класс.
У Пьера Ругона было пятеро детей. Третьему из них, сыну Аристиду, суждено стать центральной фигурой «Добычи». Он впитал в себя основные черты отца, являясь таким же предприимчивым человеком. Обманывать родню ему не довелось, но совершить это в отношении парижан — вполне. Нет ничего лучше лёгкой наживы, и совершенно неважно, каким образом её достичь. Когда-то Ругон, теперь он Саккар, что очень похоже на Маккар (фамилию любовника его бабки). Ущербный в плане политических воззрений, Аристид умеет извлекать прибыль из воздуха. От этого страдают безвинные люди, которые и должны страдать, опираясь на убеждения Золя. В руках Эмиля Аристид постепенно превращается в финансового воротилу, обладателя большого количества денег и прожигателя жизни. Разбираясь по существу, путь Аристида может иметь своё место в истории Франции времён правления Наполеона III, показывая объективно общий дух предпринимательской жилки в людях, в чьих руках оказываются громадные денежные потоки.
Золя не останавливается на одной теме. Герои «Добычи» живут жизнью богатых людей, ни о чём не задумываясь. Горе богатых дано познать только богатым. От великосветской скуки они совершают много глупых поступков, подрывая общечеловеческие ценности. Лёгкие отношения становятся источником тяжёлых ситуаций. Греховное падение — лучшая тема для пустых разговоров. Когда жена не видит мужа неделями, то может ему изменить с пасынком, порождая ворох слухов. Золя мог быть объективным, но предпочёл излагать происходящие события сухим слогом, подавляя частым сумбурным описанием лишних сюжетов. Женоподобный сын Аристида — отражение отсутствия твёрдой руки при воспитании ребёнка. Предыстория жены — лишние строчки на широкой улице снесённых домов в угоду строительства новых жилых кварталов.
В своём повествовании Золя и раньше уходил в дебри поиска нужных слов для описываемых им событий. Он погружался в себя, наполняя текст путаными фразами. Под давлением натурализма у читателя от творческих изысканий Эмиля должны были формироваться красочные образы эпохи Наполеона III; но, поскольку Золя некоторые сцены наполнял взглядом героев изнутри, дело доходило до подобия потока сознания. Очень трудно примерить на себя чужие мысли, даже если ты являешься создателем оригинальных персонажей. Ничего из пустоты не появляется, поэтому каждый писатель находит нужное для творчества в окружающем мире. Золя не мог быть исключением — кто-то один или несколько людей должны были стать прототипами действующих лиц. Аристид Саккар не такой уж оригинальный человек, чтобы приписывать его создание одному Золя.
Почему после темы революции Золя взялся за финансовые махинации? Видимо, есть в этом важная составляющая смены правящих режимов. Порывами одних пользуются другие, а Золя просто фиксирует это на бумаге.
Автор: Константин Трунин