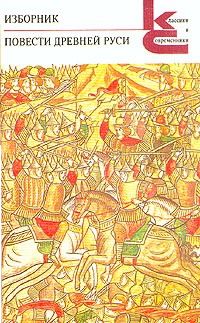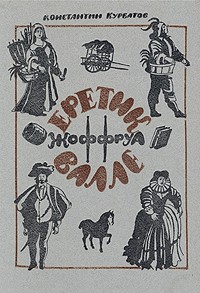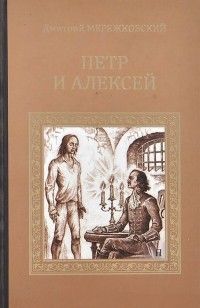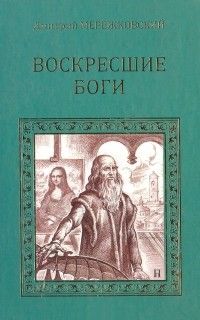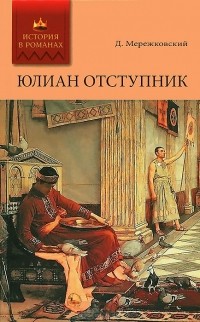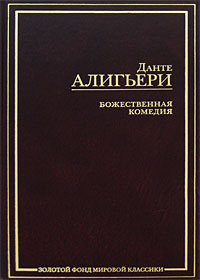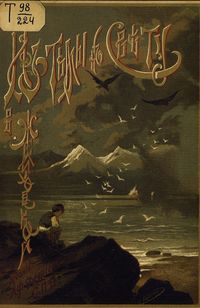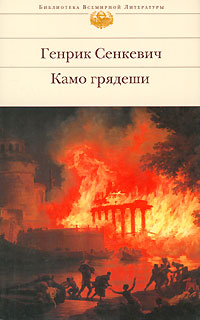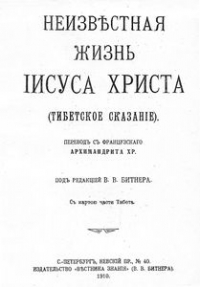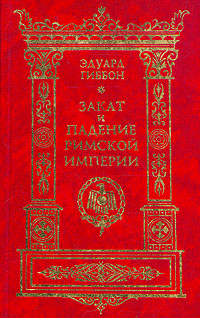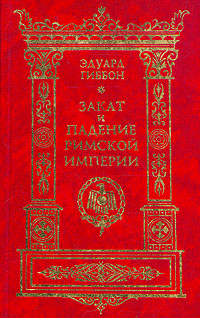
Шестой том не вносит дополнительной ясности в судьбу Римской Империи, окончательно исчезнувшей в VI веке. Гиббон концентрирует своё внимание на Византии и её соседях, внёсших тот или иной вклад в разрушение остатков былого могущества. Закончив пятый том жизнеописанием Мухаммеда, в шестом Гиббон продолжает рассказывать об арабах, об их продвижении к берегам Атлантического океана, переброске сил в Испанию и захвате юга современной Франции. Будет читателю и история русского народа, минуя остальных славян, кроме болгар. Пары ласковых слов удостоятся венгры и норманны Опять же не обойдётся без турков-сельджуков и христианских разногласий, положивших начало будущим реформаторам. Заканчивают книгу крестовые походы и падение Константинополя от рук своих бывших братьев по вере. Обо всём этом чуть ниже, но не так подробно, как у Гиббона. Цель рецензии — закрепить прочитанный материал.
Мусульмане — воинственные представители человечества. Пока христианская мораль призывает принимать страдания и жить со всеми в мире, мусульманская религия распространяется путём насаждения под угрозой уничтожения в случае любого несогласия. Мухаммед сам часто воевал. Он не раз приравнивал один день на поле битвы многим годам смиренных молений. Его последователи внесли большой вклад в развитие религии, быстрыми темпами разойдясь на три стороны. Персия не долго сопротивлялась — исповедуемый ей зороастризм ушёл в прошлое. О дальнейшем продвижении на восток Гиббон не рассказывает, но читатель итак прекрасно осведомлён до каких пределов мусульмане прошли в сторону Китая.
Более успешными оказались завоевательные походы на запад к Атлантическому океану, принеся на север Африки свою религию. Приносить было просто, но делать это приходилось часто. Племена сопротивлялись и часто свергали мусульман, подвергаясь новым волнам захватчиков. Дольше всего держалось северной побережье Африки — греки сражались как львы, препятствуя распространению мусульман на свои земли. Безусловно, походы мусульман в Африку — это агрессия против Византии, сохранившей тут свои колонии. Не совсем удобно было управлять западной частью страны, имея посередине такого агрессора, долгая борьба не была успешной — греки сдали свои позиции, уступив мусульманам весь север Африки.
Многие знают о долгом пребывании арабов в Испании, откуда их с большим трудом потом удалось выбить. Мало кто знает, что арабы пришли в Испанию по приглашению самих испанцев, пребывавших в раздорах и искавших поддержку у соседей. Арабы сперва помогли, проведя разведку местности, но потом с успехом осуществили захват территории. Также мало кто знает о продвижении арабов далее на восток, им удалось на некоторое время захватить юг современной Франции, Сицилию и Крит. Гиббон не идеализирует силу захватчиков, он с сожаление говорит об измельчании некогда воинственных готов в ленивых и жизньпрожигающих остготов, разучившихся воевать. Захват Испании стал делом двух месяцев. Арабы владели полуостровом продолжительное количество времени, изредка союзничая с соседями-христианами. Правившие в Испании Омейяды отличались добродушным нравом. Они более не делали попыток распространить свою религию в сторону франков, особенно после того как их из Франции изгнал дед Карла Великого Карл Мартелл. Впрочем, во многом продвижению мусульманства мешали внутренние распри арабов.
Нудно Гиббон повествует о быте Византии и быте Франков. Читатель может почерпнуть только любопытные факты. Например: франков по другому называли латинами. они предпочитали сражаться пешими, используя лошадей только для передвижения, были обжорами и их фигуры страдали от изрядной тучности, были готовы на всё ради прибыли; в Византии Юстиниан отошёл от латыни, перейдя на греческий язык, создавая тем самым множество проблем внутри государства, где подданные не владели греческим. После Юстиниана последующих императоров принято называть греческими. Тиберий и Маврикий — были первыми греческими императорами Византии. Однако, любое сравнение жителя Византии с греком считалось обидным.
Сейчас принято считать религию чем-то устоявшимся, любые попытки иначе её воспринимать и по другому толковать — добром не закончатся. Иные взгляды сразу заносятся в разряд сектантских. Хотя, в своё время, православные считали такими же сектантами католиков. Сейчас всё воспринимается более гладко, но, думаю, отношение от этого не сильно изменилось. Ушедшая в православие, Византия тем самым обрекла себя на уничтожение, когда западная церковь начала использовать крестовые походы для своей выгоды, борясь не только за освобождение вечного города, но и за искоренение иной трактовки христианства. В VI веке арианство сдало позиции государственной религии, манихейство же предприняло последнюю попытку изменить ситуацию к лучшему — появились Павликиане.
Что отличало павликиан от остальных христиан? Покуда греки считали вредным показывать Библию верующим, тщательно оберегая от любопытных глаз, католики не отставали. А вот павликиане смотрели на иконы, как на простые картины, на мощи, как на простые кости, на крест, как на кусок дерева, тело и кровь Христа — кусок хлеба и чаща вина — лишь благодать, мать христова — просто мать, а ангелов никто не просил кого-либо защищать. Они отвергали все предметы религиозного поклонения. Старый завет — нелепое произведение людей или демонов. Христу приписывали небесное тело, а распятие на кресте было призрачным. Павликиане не искали мучительной смерти, но сто пятьдесят лет они были преследуемы.
Цвингли, Кальвин и Ян Гус, по мнению Гиббона, являлись частичными последователями павликианства, став реформаторами, они разрушили до основания величественное здание церкви, начиная с индульгенций и заканчивая святой девой. Подражание идолопоклонству было заменено культом молитв к Богу. Реформация позволила ханже мыслить без влияния авторитетов, а рабу — говорить о том, что он думает. Папа и соборы перестали быть последними истолкователями веры, теперь каждый мог это делать как ему угодно.
Весьма коротко стоит поведать о болгарах, венграх, русских, норманнах и турках.
Все они были соседями Византии и периодически тревожили спокойствие восточной империи. Впервые болгары были упомянуты во времена Теодориха, готского вождя, что одним из первых пошёл на Рим войной. После этого упоминание о болгарах исчезло, появившись много позже. Гиббон склонен считать, что имя болгар взяли другие племена, обосновавшиеся в тех же местах, где до них жили первоначальные болгары. Новые болгары крепко воевали с Византией, пленив как-то одного императора и убив его. Позже болгары приняли религию Византии, стали цивилизованным государством, отправляли детей учиться в Константинополь.
Когда-то прошедший по Европе Аттила, оставил после себя только венгров (они же мадьяры). Греки считали венгров тюрками. Гиббон же скорее склонен относить их к славонцам (протославянам). Венгерский язык однако больше похож на финский. Венгры брали дань с германцев, являясь довольно грозно силой. Чтобы дойти до Константинополя, воевали с болгарами, ставших удачной защитной прослойкой для Византии. То было лихое время. Венгры с одной стороны, арабы с другой, норманны с третьей — тяжёлое время для политического спокойствия в регионе.
О русских Гиббон ничего конкретного не рассказывает. Про русских знал ещё Карл Великий, только под русскими он подразумевал соотечественников шведов и норманнов. На земли Руси когда-то пришёл один варяг и основал царский род, просуществовавший семьсот лет. Русские делились на северных оседлых и южных кочевых. Было две столицы — Новгород и Киев. Русские ходили воевать с Византией. Более ничего Гиббон не поясняет. Однако, всё-таки в его словах есть толк. Гиббон говорит о том, что природу варваров нельзя переделать с помощью уговоров, это может сделать только религия. Поэтому, навязывая христианство болгарам, венграм и русским, Византия обеспечивала себе, как минимум, надёжный тыл.
Русским уделено мало места, чуть больше Гиббон рассказывает о норманнах. Но его повествование касается выборочных мест из истории и не вносит никакой ясности в дело о самих норманнах. Только вот сицилийское, да неаполитанское королевство, а север Франции и набеги в V веке будто не происходили.
А вот турки — это провокаторы Крестовых походов. Захваченный ими Иерусалим, спустя тридцать лет, вызвал возмущение у некоего Петра Пустынника. Притеснение христианских паломников возмутило общественность. С тех пор в Европе ничего интересного не происходило и историки присвоили этому времени название Тёмных веков. Вся европейская политика перенеслась под стены Иерусалима, куда в отважных порывах каждый раз отправлялось очень много людей. Шли воевать сотнями тысяч. Шли военные и шли мирные. Иные не знали ничего о Иерусалиме, такие в конечном счёте потеряли разум и захватили Константинополь, толком не разобравшись, куда их высадили.
Первые крестовые походы шли по суше через земли болгаров и венгров, вызывая возмущение местных жителей, нескончаемым потоком. И если Алексей Комнин ещё мог получить выгоду для Византии, то последующие походы всё больше использовались в интересах римских Пап, а позже французских королей, кому существование Византии было более противным, нежели мусульманство. Был в те времена налог для тех, кто не желал идти в поход — приходилась отдавать часть доходов церкви. Седьмой поход стал последним — Византия была разграблена. Хороший плацдарм для противника веры.
Религия внесла свой вклад в развитие человечества, позволив ему встать на новую ступень эволюции. Что делать с религией дальше — слишком больной вопрос. Человечество не готово его решить. Когда-то христианство, в пылу борьбы, разделилось на две основные ветви. Позже религиозные споры между греками и латинами привели к новому разрыву между церквями. Споры касались не столько сути самой религии, сколько касались, на первый взгляд, незначительных различий в правилах выполнения обрядов и образа жизни. Брак священников, добавление дрожжей в хлеб, воздержание от употребления в пищу убитых животных, время проведения поста и сам рацион, как креститься, бриться и т.д.
Греки и иудеи выпестовали христианство. Арабы и иудеи в ходе раздоров породили мусульманство. Но Византию погубило только христианство, как и Рим до неё. Но не будем говорить об этом однозначно. Ведь известна теории пассионарности Гумилёва — она всё объясняет.
Автор: Константин Трунин
» Read more