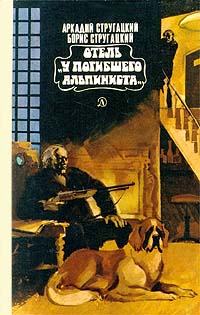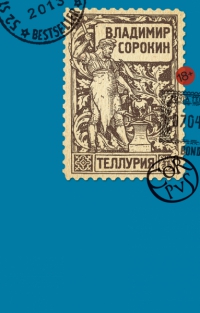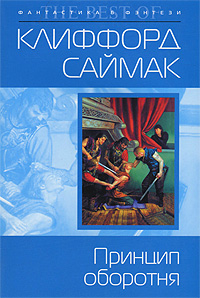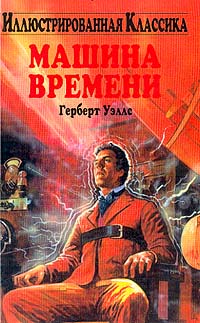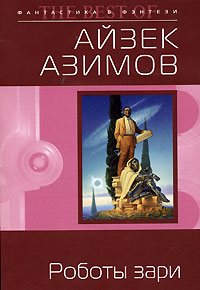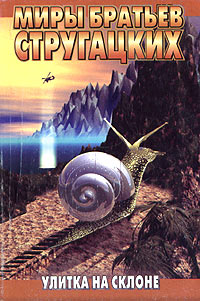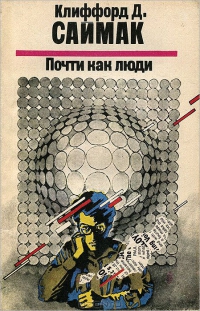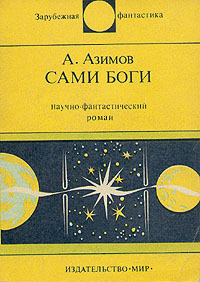Джон Уиндем «Кукушки Мидвича» (1957)
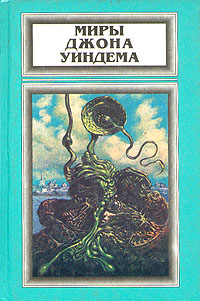
Есть в мире много тайн, которых следует бояться на полном серьёзе. Не только бояться, но и думать о том, что этого следует бояться. Люди любят изводить себя страхами, некоторые просто помешаны на удовлетворении этого животного инстинкта, находя в нём много больше, чем те, кому нравится прыгать с парашютом или забираться на отвесную скалу. Природных врагов можно искать у себя дома, можно на улице, либо в дремучем лесу и ближайшем водоёме, а можно обратиться к полной неизвестности, стараясь применить её в своей жизни. Подобным последнему методу поступил и Джон Уиндем, создав идеальную обстановку для следующего шага к эволюции, только выраженного не планомерным переходом от одного к другому, а резким скачком, благодаря постороннему влиянию. Всё-таки, необъятный космос хранит много тайн, и при желании развивать человеческую фантазию можно бесконечно. Уидем поступил ещё проще: он взял всем известный пример поведения кукушки, взял секретный объект, создал интригу при загадочных обстоятельств и родил на свет совсем не то, что хотелось бы видеть человеку на своей планете. Уиндем начинает борьбу за право человека на существование.
Книги Уиндема примечательны небольшим объёмом. Не желает автор парить выше нужного, наполняя свои произведения левыми рассуждениями, нагромождением лишних сюжетных линий, развитием темы далее необходимого. «Кукушки Мидвича» обрываются на едва ли не самом интересном месте, но не стоит винить в том автора, когда допусти он выход угрозы за пределы допустимого и не придав налёт разума некоторым людям, то уже не нашлось бы такого оружия, способного помочь. Каждая сцена — это полноценная картина обстоятельств. Каждому моменту уделено своё место. Всё развивается по строго заданной программе. Читатель узнаёт всё постепенно, открывая для себя все необходимые детали. Уиндем не старается уводить разговор в сторону, излагая слова непонятным образом под прикрытием художественных изысканий и высоких идеалов — книга написана именно так, как должна быть написана любая книга вообще.
Много загадок предстоит решить читателю, начиная с вопроса определения границ зоны сна и сочувствия жителям городка, где никогда ничего не происходит, до наблюдения за забеременевшими женщинами и результатами этой независимой от них деятельности. Вмешает Уиндем государственные структуры, формируя таким образом любимую человечеством теорию заговора, где нужно быть крайне влиятельным. Можно ли это использовать для своей выгоды или стоит поступить как эскимосы, вырезавшие всех кукушек подчистую, либо на манер стран из-за железного занавеса, жахнувших так, что тайга Дальнего Востока оказалась выжженной на километры вокруг. И самое необычное — Уиндему веришь, а по телу разбегаются мурашки, заставляя мозг впиваться глазами в текст. Хорошая фантастическая повесть — скажет читатель, отличная идея о бренности бытия — ответит подсознание.
Очень жаль, что книга издаётся только вместе с «Днём триффидов», другой замечательной работой автора, где Уиндем придумал апокалипсис с самым понятным концом света — почти все жители ослепли. К тому же были примешаны триффиды — плотоядные передвигающиеся растения, что придало книге элемент фантастики. Трудно сказать, что именно объединяет «День триффидов» с «Кукушками Мидвича», где в первой книге речь идёт о наказании человека за недальновидность, а во второй — участие в судьбе планеты некоего таинственного объекта, в одно утро появившегося и в один вечер покинувшего предполагаемое место приземления. Одно в этих произведениях есть общее точно — это борьба человека за право быть доминирующим на планете существом, способным оказывать сопротивление и решать всё самостоятельно, не прибегая к помощи третьей силы.
Организм женщины устроен так, что иногда медики регистрируют случаи самооплодотворения; странная реальность может таить в себе даже больше, нежели человек способен осознать — просто не всё он замечает, находясь не на той стадии развития.
Автор: Константин Трунин