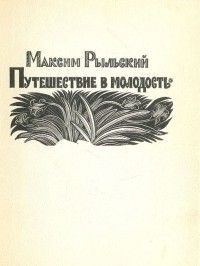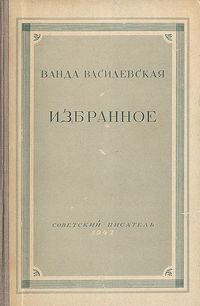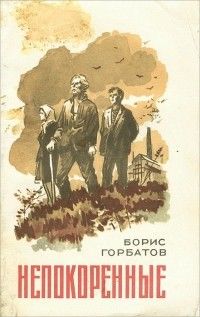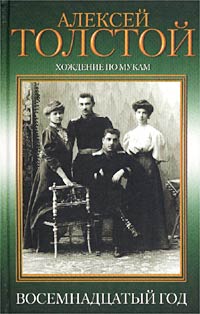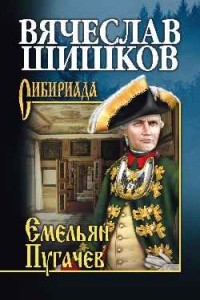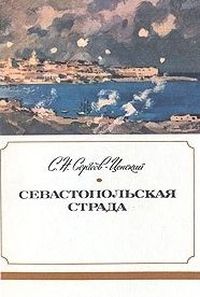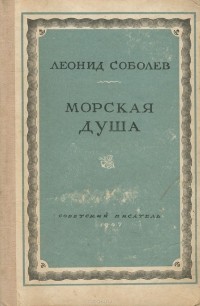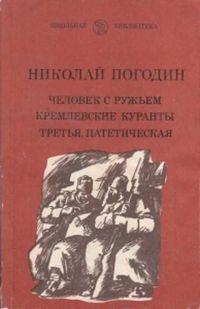Александр Твардовский «Василий Тёркин» (1941-45)
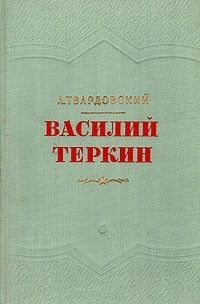
Вот война, ещё немножко, тяжело в бою солдатам, скажешь ёмко, точно, броско, а тебе в ответ — куда там. Что сказал? Сказал ты слабо. Всё на фронте, брат, не так. Не добавил там, где надо. Получился, в общем, мрак. А возьмись за Тёркина, про него Твардовский писал, ведь не иголка ёлкина, кою в стоге сена не сыскал. Там вся правда о войне, ведь была на земле война, такого не прочтёшь нигде, оттого и поэма Твардовского нужна. Сбился прицел, стал протяжённым слог, о чём критик фальшиво пропел, с тем Твардовский умело справиться смог. Начал он рассказ, стоило бомбам немецким упасть, и повествовал по тот час, пока Рейху Третьему не пришлось пасть. Сложенными о солдате стихи стались, в них героем был — рядовой солдат, знакомые черты в нём каждому казались, подобных Тёркину много, о них всегда с гордостью говорят.
Возьмём Русь древних времён, били кочевников славно богатыри, о монгольском иге в той же мере прочтём, на подвиги Евпатия Коловрата, читатель, взгляни. Что до Тёркина, ведь и он — богатырь былинный. Ох, иголка ёлкина, богатырь всесильный. Что ему за танк стоило усесться? А реку, чуть ли не во льду, переплыть? Мог и под гармонь соловьём распеться. Мог и про свои подвиги забыть. Такой герой — славящийся удалью парень, похожим был матрос Пётр Кошка в Крымскую войну: мягкий характером, но твёрдый, что камень, покажет всегда подвигом натуру свою.
Остались ли такие Отчества сыны? Грянь сеча бранная в наши дни вдруг. Не выдержать ведь русским никакой войны, если возьмёт их враг на испуг. Остались! Уверенность в то тверда. Объяснение тому есть простое. Докажет твёрдость духа лишь война, тогда как в миру у русского настроение чаще злое. Появятся тёркины, куда же без них, и лихостью не станут хвалиться, может сочинит кто про них стих, иначе вновь в безвестности им раствориться. Не в том беда, что пишут книги, злобствуя изрядно, просто лучших забирает война… всех тех, кто написал бы о войне преславно.
Пройдёт Тёркин войну из начала в конец, невзгоды преодолевая, вроде не зрелый муж, скорее юнец, геройствуя, о жизни толком не зная. Его сила в том — познать печаль не успел. Значит, не мог побывать отцом, о потере родителей он ещё не сожалел. За его плечами — жизнь привольная, нечего ему терять. Минула лишь пора школьная, ему бы продолжать с друзьями играть. Война планы оборвала, бросила в пекло сечи жаркой, не спросив, на передовую увлекла, где бой штыковой являлся свалкой.
Обо всём пытался Твардовский писать, сперва делая акцент на герое, потом стал акцент смещать, показывая, что бывает на войне обстоятельство другое. Вот случилось нечто, кто-то себя проявил, не назвался он беспечно, но читатель знает — Тёркин это был. Так во всём, поступки находя, достойные подвига на войне, не щадил Твардовский себя, Тёркина повсеместно возвеличивая, неважно где. Выходил сборник постепенно, рассказ дополнял рассказ, и читатель знакомится с ним теперь непременно, без творения Твардовского никто не обходится в школах сейчас.
Можно закрыть книгу, она по отрывкам известна, вникать в неё чрез меры не следует уж точно. Характеристика Тёркина и без того лестна, слава о нём гремит в читательских сердцах прочно. Об остальном промолчим, понадеявшись на сохранность в человека душе стремления совершать благие деяния. Должно быть стремление к подвигу всегда таким, чтобы ни орден и ни медаль не служили предметом для ради них сугубо старания.
Автор: Константин Трунин