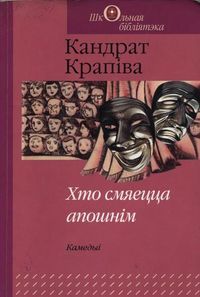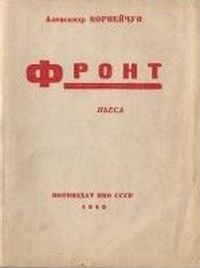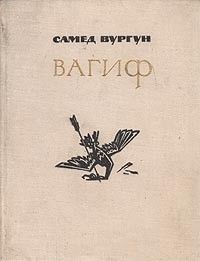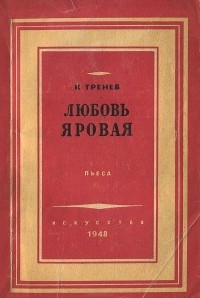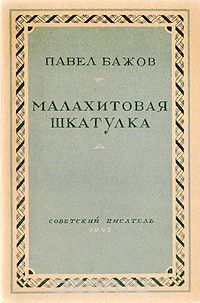Константин Симонов «Парень из нашего города» (1941)
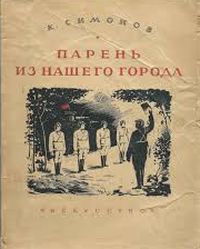
Не пьеса, а сценарий для художественного фильма. Слишком стремительно развиваются события, излишне часто меняется место действия, нет определённого смыслового содержания. Константин сообщал прежде всего историю жизни человека с 1932 по 1939 год. Единственная связующая нить — отношения с девушкой. С первой сцены зритель должен был увидеть проблему выбора — обрести совместное счастье или пойти по пути профессионального роста. Гражданский долг оказался сильнее. Поэтому он отбыл на военные учения, а она поехала покорять публику, пожелав сделаться актрисой. Так зритель и оставался в неуверенности, смогут ли два сердца воссоединиться вновь. Чаще всего в художественной литературе всё заканчивается хорошо. Поэтому и обрести совместное счастье им будет суждено.
Главный герой показывается Константином в качестве ответственного человека, готового брать на себя вину за чужие ошибки. Вот запорол водитель переправу через мост, должен и нести вину за утопленный танк. А стоило прежде хорошо проверить исправность боевой машины — быть тогда переправе успешной. Но должен ли командир проверять абсолютно всё, понадеявшись на ответственность непосредственных исполнителей? Как всегда, общее дело нужнее тому, кто не сможет охватить всех аспектов, ибо тогда на свои дела у него не останется времени. Ежели главный герой будет признан виновным — учёбу он не закончит.
Всё-таки фортуна будет на его стороне. Способность взять вину на себя — особенная черта уверенного в своих силах человека. Он не скажет начальству о чужом промахе, сославшись на собственный недосмотр при планировании и определении вероятности успеха задуманного манёвра. Может потому его отправят в Испанию, где разразилась Гражданская война. О применении тактических умений в условиях Пиренейского полуострова Константин промолчит, сославшись только на храбрость главного героя. Окажется, он попадёт в плен, его будут едва ли не пытать, и когда должно будет наступить разрешение, тогда ударят по испанским позициям танки, благодаря чему главный герой сумеет сбежать.
Итак, главный герой способен брать вину на себя, быть стойким и проявлять храбрость в экстремальных ситуациях. Что ещё? Он человеколюбив. Когда возникнет вопрос, как быть со слабовольным солдатом, то он решит дать ему последнюю надежду на исправление. Легко расстрелять неуверенного, попробуй внушить ему стремление к действию. Солдату будет вручено знамя и дано задание идти в бой первым, дабы водрузить на вершине. Ежели сможет сделать — будет человеком, если падёт — тогда хоть умрёт человеком.
Таков вот «парень из нашего города» — весьма достойный уважения. Такой делает всё по чести, нисколько не думая о чём-то другом, кроме общего благополучия. Его бы во главу армии поставить — вышел бы из него Кутузов или Суворов, способный к победам, ибо знает всё от начала до конца, постоянно соразмеряя силы задуманного и возможного к осуществлению. Он всегда возьмёт вину на себя, не ссылаясь на расхлябанность солдатской совести.
Как же быть с его девушкой? Пока он воюет, она где-то даёт концерты. Мудрено ли представить, как однажды она направится в расположение благоверного, где с ним встретится. Всё должно завершаться хорошо. Конечно, главного героя могли убить, но Константин того не позволил. Не может достойный славы человек пасть, ничего так и не добившись. Данный сюжет не укладывался бы и в рамки художественного произведения, иначе внимающий истории обязательно спросит: зачем же брался о таком писать, оборвав повествование на середине?
Данная пьеса принесла Симонову первую из Сталинских премий, сразу первой степени. Константин после ещё пять раз удостоится вручения этой премии.
Автор: Константин Трунин