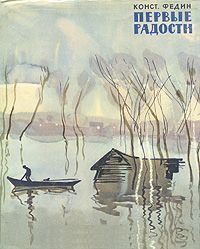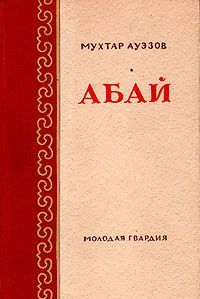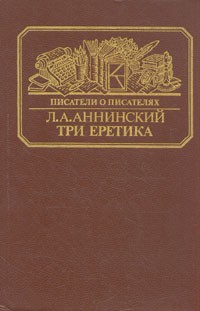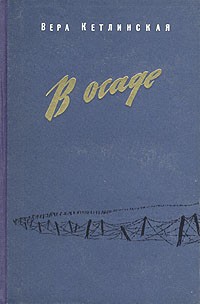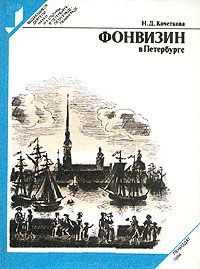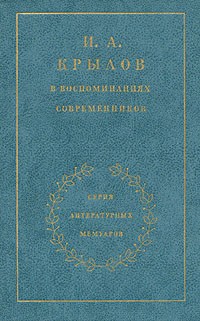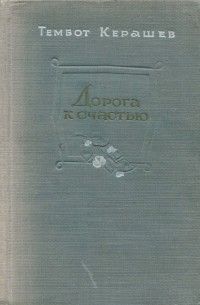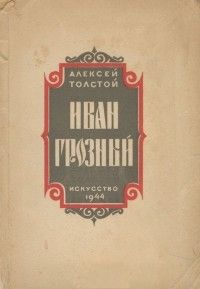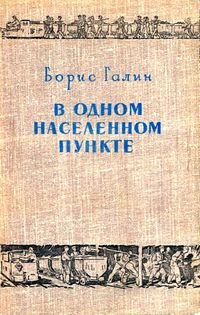Николай Михайлов «Над картой Родины» (1947)
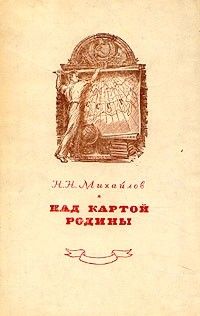
В чём жители Советского Союза по результатам Второй Мировой войны были уверены, так это в бесспорном величии своего государства, невзирая ни на какие опасности, которые грозят от капиталистических стран. Николай Михайлов решил внести собственную лепту, он посмотрел на географическую карту, поняв для него очевидное — совсем недавно карта выглядела иначе. В том уникальность Советского Союза, он постоянно развивается, никогда не сбавляя оборотов. Если нечто считали на Западе за фантастику, советские граждане стремительными темпами воплощали это в жизнь. Но, ничему не суждено существовать вечно, всякая успешная модель сходит на нет. Когда-нибудь сдаст позиции коммунизм, проиграет борьбу и капитализм, но всему этому суждено постоянно возрождаться в новых формах, поскольку данная борьба не может прекратиться. Пока же — для Николая Михайлова — Советский Союз воплощал собой непотопляемый ковчег, ведущий советский народ к светлому будущему.
Весь труд пропитан сравнениями. Михайлов постоянно озирается на западные страны, отмечая превосходство Советского Союза буквально во всём. Ещё одной стороной уничижения является царская Россия, государи которой не желали слушать народ, поднимать страну на вершину могущества, упиваясь собственным величием, вполне уверенные — никому ничего доказывать не следует. Однако, власть в государстве сменится, новое руководство возьмёт курс на увеличение производства всего, быстрыми шагами совершая поистине невозможное, причём неважно, за счёт чего это удавалось сделать. Михайлов внушал уверенность, будто всё совершалось на энтузиазме советских граждан, ни в чём не имеющих сходства с рабочими-рабами Запада и крепостничеством царской России.
Безусловно, отказать Советскому Союзу в росте потенциала нельзя. Страна полностью охватывалась вниманием, каждый клочок земли находил пристальный интерес. Советский человек шёл туда, куда не решались отправиться ни при царской России, ни при мощи возможностей капиталистических стран. В Советском Союзе осваивали пустыни, заболоченные местности, самые северные широты, соединяли реки каналами, возводили гигантские сооружения. Казалось, такими темпами людям в государстве скоро станет мало места, так велик размах их деятельности.
Почему при царской России не делали подобного? Если изобретатель желал уведомить общественность о научном изыскании — его не хотели слушать. Ежели человек проводил исследования, открывал новые земли и подробно изучал уже ставшие известными — на это закрывали глаза. Лишь в Советском Союзе по достоинству оценили труд забытых гениев, отдавая дань уважения трудолюбию, невзирая на чинимые препятствия. Может и подвиги советских изобретателей и исследователей надолго останутся предметом уважения потомков: видимо к этому подводил читателя Михайлов.
Не ценили в царской России и малые народы. Николай ставит в пример Советский Союз, сумевший спасти от вымирания многие из них. Тут стоить понимать, что для России при царской власти не было необходимости опираться на имеющееся, тогда как советские граждане чувствовали — сила в единстве и множестве народов, объединённых идеей построения коммунистического общества.
Так почему Михайлов полон задора? Он отражал такую точку зрения, которая показывала действительность наглядно, без желания доискаться, что за этим стоит. Потому и создавались втайне книги, где отражалась боль за прожитую жизнь, полную страданий, пускай и в стране, столь величественной, каким являлся Советский Союз, где одну часть жителей составляли энтузиасты, вроде Николая Михайлова, а другую — страдальцы, подпиравшие мощь государства, не имеющие права поступать иначе. Кто-то при этих словах вспомнит древнегреческий миф об Атланте, а кто-то мультфильм «Ох и Ах», смотря как ему лучше желается думать.
Впоследствии труд «Над картой Родины» несколько раз дополнялся.
Автор: Константин Трунин