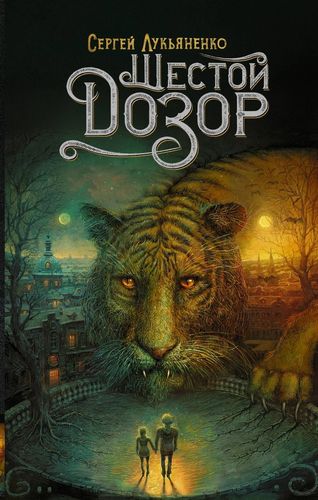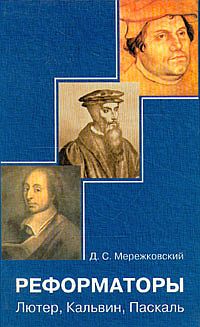Иван Аксаков «Речи в заседаниях Славянского комитета» (1876-78)

Важным моментом в жизни Ивана Аксакова стало участие в деятельности Славянского комитета, иначе называемого Славянским благотворительным комитетом. Оный был основан в 1858 году, у истоков помимо прочих стояли отец Ивана — Сергей, и старший брат — Константин. Присоединившись в 1875 году, аккурат в год начала сербско-турецкой войны, Иван в короткий момент стал председателем. Его жаркие речи через несколько лет приведут к закрытию комитета в Москве. Нужно понять, что комитет занимался ровно тем, о чём прежде Иван писал в статьях в рамках славянского вопроса. То есть комитет оказывал финансовую помощь южным славянам, с момента создания оплачивая обучение болгар в России. Есть мнение — Иван Аксаков всерьёз рассматривался в качестве кандидата на болгарский престол.
Первое заседание от семнадцатого января 1876 года касалось приезда в Россию Гавриила Веселитского-Божидаровича, очевидца боснийско-герцеговинского восстания. Он должен был выступать на тех же заседаниях комитета. Следующее — это воззвание «От Московского Славянского Комитета», касающееся роста напряжения среди южных славян против Османской империи. К октябрю новая речь от Аксакова уже в качестве вице-президента комитета. Поднималась тема курирования волонтёрского движения, наполнения фонда, учитывая военные действия против Порты, куда от комитета отправлялись медицинские работники.
Конфликт в славянских владениях Османской империи нарастал. Продолжалось боснийско-герцеговинское восстание, одна сербско-турецкая война сменилась следующей, была вовлечена Черногория. Всё шло к прямому участию России. Шестого марта 1877 года Аксаков выступил в качестве председателя комитета. Он говорил про добровольцев, а после посчитал правыми в конфликте всех одновременно, так как каждый отстаивает свой собственный интерес. Не правы только те, кто непосредственно в России отказывается от русского языка и культуры, по сути ничего не делая для страны. А семнадцатого апреля очередная речь от Аксакова, наполненная пафосным сумбуром, сказанная по причине начала русско-турецкой войны.
К первому мая комитет был преобразован в общество. Деятельность организации оценена на самом высшем уровне. Или можно считать, то стало необходимым в силу шедшей войны. Как в речи за май, так и за сентябрь, Иван преисполнен пафоса. В марте 1878 года война завершена. Тогда же Аксаков выступил с речью, вспоминая заслуги князя Владимира Черкасского, сделавшего многое для славянофильского движения, и умерший в день заключения мирного договора между Россией и Турцией. Более в речи Иван сконцентрировался на опровержении всех, кто относился к князю неблагожелательно.
Двадцать второго июня Аксаков задумался, насколько вообще оправдано было думать о болгарах? И насколько возможно объединение южных славян? Почему он прежде не видел, как болгары и сербы находились в состоянии постоянного нетерпения на протяжении тысячи лет, продолжая выступать друг против друга вплоть до поглощения их Османской империей. Почему теперь, в случае обретения независимости, они должны наладить мирный диалог? Определённо можно сказать, что точно следовало помогать им освободиться от турецкого владычества. Прочее — предмет для последующего разрешения.
Что теперь читателю думать? Вести речь об объединении славян можно бесконечно. Когда-нибудь может оно свершится. Только на какой именно срок? Пока же, на примере славян, освобождающихся от османских пут, видишь усугубление ситуации. Заглядывая вперёд, знаешь о росте противоречий, вплоть до выражения в качестве обоюдной ненависти у южных славян с желанием извести прочих с Балкан без остатка. Горька судьба и тех, кто начнёт вмешиваться в их конфликт. Но продолжать следить за развитием событий обязательно нужно, и Аксаков напишет ещё не одну статью по теме славянского вопроса.
Автор: Константин Трунин